Ефим Гаммер “Амдерма - лежбище моржей" роман ассоциаций
"наша улица" ежемесячный литературный журнал
основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.
Ефим Гаммер
АМДЕРМА - ЛЕЖБИЩЕ МОРЖЕЙ
роман ассоциаций
Ефим Гаммер
©Yefim Gammer, 2021
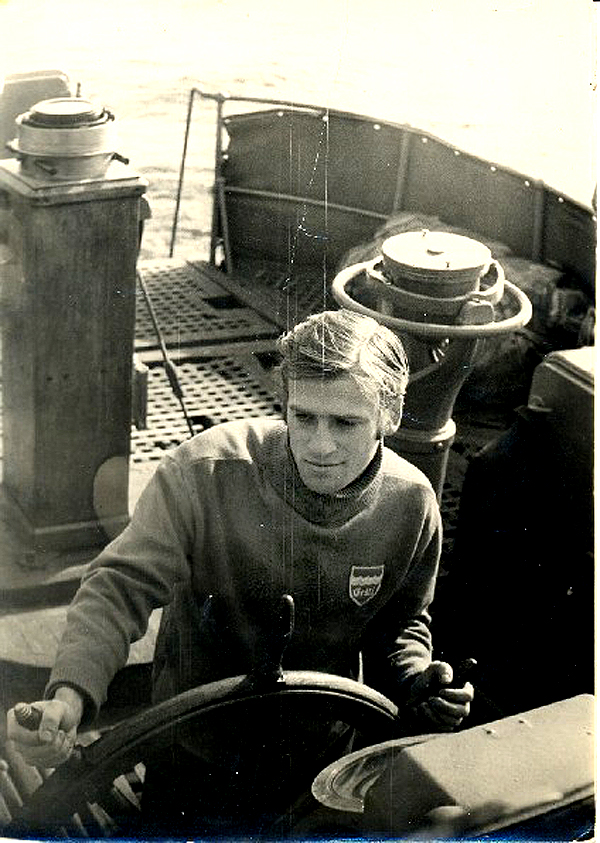
Ефим Гаммер во времена описываемых в романе событий.

Штатные и внештатные сотрудники газеты «Латвийский моряк» — 1971 год.
Слева направо: Симон Мурниек, Людмила Нукневич, Ефим Гаммер, перед ним в первом ряду Григорий Илугдин, Клариса Перельмутер, Григорий Гросман.
XXI век. Ассоциация первая:
ТАКАЯ ОНА, ЦЕНЗУРА.
К весне 1970 года была выдана первая сотня виз рижским евреям, выезжающим в Израиль на постоянное место жительства. Желающих поменять одно ПМЖ на другое оказалось намного больше. Они устремились в ОВИР, который в Риге тоже время от времени менял одно ПМЖ на другое. Но там их не хотели видеть. Они стали писать письма в Кремль с требованием - «отпусти народ мой!». Но там их не хотели читать.
Брожение чувств требовало какого-то выхода.
Иначе… А что иначе?
Застойное время. Застойные нравы. Застойный эзопов язык.
Тогда-то, ради забавы, я и написал:
«Мы устроим демонстрацию
за свободу менструации».
И предложил эти стишки редакции. Не напечатали.
Редактор газеты «Латвийский моряк» Яков Семенович Мотель сказал мне: «Свободы для этого дела, действительно, нет. Демонстрации, как и запланировано - 1 мая. А что до твоего произведения, то - оглядись - красные флаги уже сегодня вывешивают».
На дворе стоял апрель 1970 года. И страна отмечала столетие со дня рождения Ленина, Владимира Ильича.
Этому столетию и посвятил свое стихотворение Виктор Пузырь, инженер Латвийского морского пароходства и внештатный автор нашей газеты.
Привожу его без купюр:
«Кто мог подумать век назад,
что в колыбельной лени
шлепком кормилицы под зад
на жизнь благославлен был Ленин».
Это стихотворение тоже не напечатали.
Такая она была, советская цензура. Некуда податься талантливым людям. Разве что в пивную. А у меня намечалась ходка в Арктику. На латвийском танкере «Юрмала». От географически доступного, как Полярная звезда, Мурманска до абсолютно неведомой Амдермы. И я не предполагал, что мой репортаж выкатится на газетную полосу лишь в сокращенном варианте, а в полном - книжном - объеме его нигде не напечатают. Помнится, я решил для себя тогда: ну что ж, хозяева нашей жизни, не вечно вам праздновать на моей улице! Пусть сегодня ваша взяла. Доживем до понедельника. Припрячу пока что машинопись в загашник, а потом, когда обрету «литературный вес» пуда в полтора, подкину ее, наподобие «Рукописи, найденной в Сарагосе», какому-нибудь свободному от предрассудков изданию. В этом случае никакая цензура и не прицепится. К тому же рукопись спустя тьму советских лет может быть найдена вовсе не в Сарагосе, а, допустим, в древнем Иерусалиме, где цензура - экзотическое, но вовсе не допотопное животное - практически не водится.
Правда, добавлю из времен нынешних, и мы тогда еще не водились на библейских пастбищах. Но очень надеялись, что погодные условия изменятся: к первой тысяче виз, выданных в 1970 году отъезжающим в Израиль «евреям молчанья», то бишь нашим соотечественникам, прибавится вторая, дай Бог, третья, и мы пощиплем еще травку на кисельных берегах, омываемых молочными реками.
Так и вышло.
Написал я свою, далеко не первую прозу, как обычно, «в стол», а обнаружил рукопись чуть ли не сорок лет спустя в потайном кармане чемодана, с которым некогда выбирался из Риги, через Брестскую таможню, на Землю Обетованную.
Что ж, раскроем пожелтевшую папку с бумагами. Интересно, хотя уже вряд ли актуально. Впрочем, мечтали ведь о «нетленке». Мечтали, мечтали, вот сроки и подошли «для проверки на вшивость».
Почитаем, окунемся во времена минувшие, сегодняшними ассоциациями обрастем. А понадобится, изменим некоторые фамилии и – в тираж.
Сам себе автор, сам себе цензор, сам себе издатель.
И сам себе читатель.
Хорошо! Но бывает лучше.
1.
Амдерма… Амдерма… Что за городок такой расчудесный? Для тех, кто, собираясь в Израиль, подпольно изучает иврит, в его названии таится приманка для лингвистического ума. Явственно чувствуется: оно ветхозаветных корней, в особенности при разделении на слоги. Отсюда и мысль богатая: Амдерма заложена древними евреями, теми, кто исчез со страниц Библии после Вавилонского пленения. А сколько их было? О-го-го! Сотни тысяч, по доисторической переписи населения.
И впрямь, десять пропавших колен Израилевых – не шутка. Не на летающих тарелках ведь их утащили на небо - к лучшей жизни. Расселились где-то по матушке-Земле. Живут и размножаются, плодят себе подобных. На разных участках суши и моря. Тут и вопрос наклевывается: почему бы им на заре цивилизации, тем более, что она называется иудео-христианской, не вырулить к Северному сиянию? Согласитесь, мастерить себе подобных гораздо вольготнее здесь. За Полярным кругом ночь долгая, протяженностью в полгода ночь, что способствует столь полезному и приятному занятию.
Не верится в эти догадки? Не наукообразны? А все же попробуем открыть рот, и по складам, по складам, как по кочкам: «Ам – дер – ма». Теперь - давай не ленись! - переквалифицируйся в полиглоты. Напрягаем мозги и принимаемся за язык Соломона мудрого.
«Ам» в переводе на русский - «народ». Конечное «ма» при расшифровке с иврита дает извечное - «что?» «Дер»? На идише подчеркивает принадлежность к чему-то. Это четко прослеживается в прозвищах и кличках местечковых евреев. «Авремеле дер математик» (Математик Авремеле), «Ошер дер глезер» (Стелокльщик Ошер), «Шмуел дер гелэр» (Рыжий Шмуел).
В конечном итоге у нас вырисовывается, что иврит в тесном контакте с разговорным бабушкиным идишем демонстрирует нам, что «Ам - дер - ма» при умелом подходе к этимологии слова представляет собой… Что? Правильно: «Народ – загадка». Либо – «Что за народ?»
Доходит? Не на все сто? Принимаю возражения. Но попутно приняв и недостающие сто грамм на посошок, допускаю, что все было бы намного проще, кабы вместо «Амдерма» на путевом знаке – визитке города – читалось: «Амдерман». Тогда автоматически устранялись бы наши домыслы, а взамен набегало на скоростях: «Шнейдерман, Цедерман, Гиндербург, Зандерберг и примкнувший к ним Рабинович». В такой благоприятной ситуации, признаю, только слепому не различить, что катишь в родные Палестины. В особенности, если еще раз вспомнить об иврите и прочитать название города справа налево, и опять по слогам.
Ам-дер-ма в этом случае преобразуется в Ам-ред-ма.
«Ам», как мы уже договорились, «народ». «Ред» - повелительная форма ивритского глагола. За сим он и глаголит по-русски – «сойди, спустись!». На иврите назойливым людям – «нудникам», доставалам по-русски, обычно так и говорят: «Ред ми мейни» - «Сойди с меня!», либо - «Спустись с меня!». Последний слог – перевернутый первый. Ивритское «ма», оно же русское «что». На месте слова «народ» в перевернутом его состоянии находим снова загадку в виде пресловутого – «что». Ну, а где же разгадка? Не в перестановке ли слов? Переставим и у нас получится: «народ, что спустился». И тут набегает внезапная ясность. Тех, кто покидает Святую землю, так и называют – «йордим ми Исраэль» - «спустившиеся с Израиля». Неужели, действительно, наши предки из какого-то потерянного колена Израйлева добрались до Карского моря? Могло такое быть? Вполне возможно. Остается только найти доказательства. А где их искать? Разумеется, не на рижском взморье. За полярным кругом? Что ж, не велика беда: за разгадками ходили и далече. Пржевальский в Центральную Азию, Арсеньев в Уссурийский край, Миклухо-Маклай в Новую Гвинею.
Кинемся и мы в путешествие. Все же двигать не на своих двоих, а культурненько, с удобствами, – на «тушке» по воздуху да на танкере по воде.
Но прежде, чем вязать морские узлы до Амдермы, следует запастись билетами на воздушный лайнер и махнуть в Мурманск, где на рейде, в ожидании сменного экипажа, стоит танкер «Юрмала». Но еще раньше предстоит наведаться в библиотеку, чтобы кое-что полезное о граде арктическом выведать.
Я позвонил своей надежной до потери пульса Галке Волошиной и попросил ее смотаться в библиотеку и выкопать там какие-либо сведения об Амдерме.
- Лично мне некогда, - пояснил я. - Мне командировку оформлять.
- А командировочные – «до» или «после»?
- Уже! И винчик купил – «сухарик» по кличке «Каберне».
- Тогда бегу.
- Сначала в библиотеку, Галка!
- Туда и бегу.
- До вечера…
«Самая читающая в мире страна», как выяснилось, штудировала в юбилейном году не только Ленина. Она озаботилась и моими потребностями. И пусть не к путеводителям вывела, но кое-какую информацию подкинула.
Надежная Галка Волошина нашла в студенческом загашнике томик Евгения Евтушенко. И доставила ко мне домой – ул. Янки Купалы, 5.
- В одном из его туристических стихов, - сказала, - упоминается Амдерма.
- В каком?
- А вот в том, где наш автор клюкал тройной одеколон. Читаем?
- Читаем!
И прочли. Вслух. На два голоса.
«Мы сто белух уже забили,
Цивилизацию забыли,
Махрою легкие сожгли…
Но, порт завидев, грудь навыкат,
Друг другу начали мы «выкать»,
И с благородной целью выпить
Со шхуны в Амдерме сошли…»
- Подумаешь, невидаль, - промямлил я, когда поэтическая речь вывела к популярному у алкашей аптечному напитку. - Тройной одеколон и в Риге можно лакать. Лакать и стихами пробавляться от избытка алкогольных градусов.
Признаюсь, я не удержался и тут же продемонстрировал собственное сочинение:
«И я там был,
Мед-пиво пил,
И по усам текло,
И по зубам попало…»
- Ты написал?
- Вот именно, причем, в пятнадцатилетнем возрасте, под воздействием русских сказок.
Мое ревнивое замечание вполне объяснимо. Кому из поэтов эпохи развитого социализма хотелось, чтобы на подушке, рядом с изголовьем любимой девушки «красовался» вместо него Евтушенко?
Мне этого не хотелось.
И мы забыли об Евтушенко, Амдерме, Баренцевом море и северном сиянии.
Нам и без всего этого было хорошо.
2.
Чем плохи советские телефоны?
Тем, что звонят в неурочное время.
А несоветские?
У них та же беда. Но они – импортные. Их звонки устроены таким образом, что в них слышится нечто многообещающее: приглашение на выставку, на просмотр заграничного фильма, на презентацию - с попутным выпивоном в баре-ресторане.
Мой телефон был советский, но звонок в него был вмонтирован импортный.
Мне и «послышалось». Но приглашения не последовало. Звонил Ливик Генделист, по уважительным официальным бумагам - Лив Альбертович, судовой кок и «лично мой» внештатный корреспондент, с которым предстояло лететь в Мурманск, где на рейде стоял танкер «Юрмала».
Назван парень был с претензией на родство с древними ливами.
Для справки: "Земля ливов" - Ливо́ния (лат. Livonia, нем. Livland ) - это часть восточной Прибалтики. Захвачена немецкими рыцарями-крестоносцами. Окрещена ими же по аналогии с одним из живущих на территории Латвии и Эстонии, с тринадцатого по пятнадцатый век, финно-угорским племенем.
В конце сороковых – начале пятидесятых годов, может быть, в знак «тихого» протеста против очередной потери независимости, название племени перекочевало в метрику новорожденных прибалтов, превратилось в собственное имя – Лив. Являлось оно и довольно редкой фамилией, тщательно оберегаемой и переходящей из поколения в поколение без изменений или прибавки латышского суффикса – «ис». К слову, один из фотокоров нашей редакции, Гунар, и носил такую достопримечательную фамилию – Ливен.
Но вернемся к телефонному звонку.
- У меня для тебя есть информация – пальчики оближешь, - сказал мой приятель, внештатный корреспондент и судовой кок по совместительству.
Ливик Генделист всегда говорил на «журналистском уровне». И всегда, при встрече либо по телефону, стремился «пробиться» на страницы легендарного «Латвийского моряка». Он обладал редким даром «засветиться» там, где меньше всего его ожидали увидеть.
- Когда я в 1969-ом был в Каннах на внеконкурсном показе «Андрея Рублева», - говорил Ливик с выраженьем на лице, - мы так быстро разгрузились, что даже не успели посмотреть картину. И очень об этом потом сожалели. Пришлепали домой, а дома, оказывается, она еще на экран не вышла.
- Почему же, Ливик? – возражал я. – Это на широкий экран она не вышла. А тишком ее показывали во Дворце культуры завода ВЭФ и у нас в Интерклубе.
- Оки-доки, «показывали»! Но для кого? Для избранных?
- Для оповещенных…
- Смотрел?
- Оба раза.
- Кинчик стоит того?
- Стоит.
- А нам его покажут?
- Когда у тебя следующая ходка в Канны?
- Месяца через два…
- Вот как раз и поспеешь к началу сеанса. Там…
- Спасибочки – раз-цвай-драй! Может быть, ты мне и валюты на просмотр кинчика подсыплешь?
- Держи карман шире!
Больше всего в жизни Ливик любил сочинять стихи, особенно под гитару, чтобы быть похожим на Пушкина и заодно не отстать от Высоцкого. Аккорд – слово за слово – строчка. Скоропись воодушевляла его и благотворно влияла на зрение, когда он смотрелся в зеркало и видел там Александра Сергеевича. С ним, несмотря на явную блондинистость, был схож по комплекции и волнистой шевелюре, да и в росточке не отстал от классика - куда уже меньше? - 158 сантиметров. При удобном случае он мог заметить: «Я поэт и бард с двойной композиторской фамилией». На самом деле, его фамилия была никакая не двойная, ординарная латышская фамилия немецко-еврейского корня - Генделис. Однако плодовитый на выдумки Ливик припарковал к хитрому лисьему окончанию буковку «т», и приобрел превосходный фирменный знак - Генделист, с которым хоть в Союз композиторов вступай. Но вместо музыкального училища он поступил в ШМО – школу мореходного обучения, освоил специальность моториста и вышел в море. Правда, в море предпочел машинному маслу – сливочное, и переквалифицировался в повара.
«Я кок – инди-виду-алист! Оки-доки! - говорил он о себе. - Мое призвание – персональные блюда. Такие, что пальчики оближешь!»
Готовить надо было на всех, и в большом количестве. Так что поварские таланты не очень-то раскрывались, и приходилось больше полагаться на журналистское перо, чем на поварешку, чтобы прославиться в экипаже. Вот и сейчас, прослышав о совместном полете в Мурманск и рейде в Амдерму, Ливик Генделист решил порадовать меня по телефону наброском забойного репортажа, импровизацией в стиле путевого дневника.
- Так и пишем, прямо на первую полосу: «От нашего специального корреспондента».
- Что пишем, Ливик?
- Самолет стремительно разбежался по взлетной полосе и, подогнув по-птичьи тонкие ноги, на авиационном языке – «шасси», поднялся в бескрайний небесный океан. «Оки-доки!» - сказал командир воздушного лайнера и взял штурвал на себя.
- Стоп! Стоп, Ливик! – занервничал я, видя, что Галка грозит мне из-под одеяла кулаком. – Не торопись взлетать. И не заставляй командира лайнера говорить твоими словами. Я тут босыми ногами стою на полу.
- Надень тапочки.
- Тапочки в другой раз.
- Подожди, подожди. Тут у меня и географическая сноска есть.
- Лучше узнай, что означает слово «Амдерма».
- За нами не заржавеет. Распознаем. А пока послушай, что я надыбил из истории Амдермы. Можно дать подверсткой к репортажу, послушай! «Амдерма основана в 1933 году. Представляет собой поселок городского типа, возникший в ту пору, когда началось строительство рудника по добыче плавикового шпата. Поселок расположен на побережье Карского моря - северная граница Полярного Урала, у хребта Пай-Хой. До Воркуты по прямой - 350 километров, до Нарьян-Мара - 490, до Архангельска – 1260, если шлепать морским путем. По воздуху короче – 1070».
- А на оленях?
- Не понял.
- На оленях – ближе. Так, кажется, в песне.
- Я не знаю, как в песне. Я ее еще не сочинил. Напоминаю: сейчас я не бард, а корреспондент. Надо песню: закажи – сделаем!
- Все?
- Напечатаешь?
- Если все, напечатаю.
- Тогда – пока все! Родится ненароком песня – сообщу тут же, где бы ты ни находился. Оки-доки! И семь футов под килем!
Трубка дала отбой. И я, имея доброе морское напутствие, поспешил, форштевнем вперед, под теплое одеяло.
3.
Из-под теплого одеяла, понятно, человека никуда не выманишь, особенно, ближе к ночи. Разве что - за не менее теплым, чем одеяло, пальто. Мне пылить в Мурманск, а верхняя одежка - всего лишь названье на рыбьем меху. Мой демисезонный плащ, вполне подходящий для дождливой Прибалтики, тотчас при упоминании о Заполярье, смущенно «затерялся» в платяном шкафу.
Какая погода в морозном краю, я не знал. Но мне было ведомо: обезопасить себя от температурных сюрпризов необходимо. Отсюда и потребность в пальто. Но не с вешалки же его снимать, если его там нет. А с кого? Разумеется, с брата моего Бори. Он хоть и моложе меня на четыре года, но по росту и объему соцнакоплений превзошел на несколько выигрышных сантиметров. Поэтому его пальто годилось и мне. А в Мурманске оно будет гораздо полезнее для организма, чем в Риге, где ходить можно и без него.
Шаг – направо, шаг – налево, топ-топ-топ, и я уже на набережной Даугавы, в прогреваемом алкогольными градусами Интерклубе моряков загранплавания.
Слово – туда, слово – сюда, бля-бля-бля, и «гардеробный» номерок на серое в клетку пальто перекочевало ко мне в карман.
Дальше - «джем-сейшн» - импровизационный джаз-концерт американских моряков вкупе с нашими «подпольными» звездами свинга.
Среди рижан – звездой первой величины в ту пору как раз и был мой брат Боря Гаммер, на газетном сленге «кудесник саксофона». Его ансамбль «Комбо» гремел в Риге, и каждый исполнитель слыл истинным виртуозом. Это Майрум Аронес, муж моей сестры Сильвы, – бас гитара, Юра Смирнов – фоно, Владимир Банных – контрабас, Валерий Гарфункель – труба, Владимир Болдырев - ударные, певец – Анатолий Могилевский.
В Интерклубе, сбоку от зала, где куролесил «джем-сейшн», в двух небольших комнатах располагалась редакция «Латвийского моряка». Здесь, если позволительно так сказать, «активно дневали и ночевали наши плодовитые первые перья». Кто - за пишущей машинкой, кто - за столом для пинг-понга, а кто - и за стойкой в баре.
Время, назад! Имена – на поверку!
Редактор газеты Яков Мотель, его заместитель Эдуард Лапидус. Дальше - старейшина журналистского цеха Юпитер Езусенко, выпускница сценарного отделения ВГИКа Людмила Нукневич и ее неразлучная подруга, знаток английского языка Кларисса Перельмутер, литсотруднки Ефим Гаммер, Кармелла Медалье, Сергей Ясон, Светлана Расолько, фотокоры Гунар Ливен, Григорий Илугдин, художник Виктор Лурин, машинистка Лариса Молчадская. И примкнувший к ним Ливик Генделист, помнивший, что сорок процентов газетных материалов должны быть – авторские, а шестьдесят – внештатных корреспондетов, значит, и ему открыта дорога к печатному станку.
Ливик - надо же такому случиться! - прослышав о «джем-сейшне», приволокся в Интерклуб вместе с неразлучницей-гитарой и экстренно сочиненной, будто бы по уговору со мной, песней «блюзового характера». Но эта песня, рожденная вдали от Нью-Орлеана вряд ли сошлась бы «характером» со своей американской соперницей. Ведь мы только «в области балета впереди планеты всей». С вокалом похуже. Вот и пришлось, во имя спокойствия, чтобы не дошло до выяснения творческих отношений, затолкать подвыпившего для храбрости Ливика в редакционный кабинет, взять в буфете пару пива и пояснить:
- Когда на сцене дядя Сэм, то в первых рядах слухачи-стукачи. Из подотряда искусствоведов в штатском. Повремени со своей музыкой. Янки-дудл схиляют, тогда и солируй
- А я сейчас хочу. У меня – с пылу, с жару. Душа горит!
- Охладись пивком. И заводи пластинку. Но втихую, чтобы джазмены не услышали. А то выгонят.
- Что за фигня? Я телепатическое пение еще не освоил, – почти обиделся Ливик, но желание продемонстрировать изделие собственного голоса пересилило. Хлебнул из горлышка, плюнул на огорчение и театрально вывел:
- Оки-доки! Музыка Генделя и Листа, слова телефонные, твои, но в моей термитной обработке, исполнение тоже мое. Исполнять?
- Только вполголоса.
- Раз-цвай-драй! - Ливик мягко провел пальцами по струнам, призывая к вниманию. И налег на речитатив, не мешая фирмачам за стенкой:
«Самолетом – далеко,
на оленях – ближе.
В санях дышится легко,
тем, кто дышит.
Мне не нужен паровоз
и купе-плацкарта.
Еду-еду сквозь мороз
в май-июнь из марта.
Еду-еду за Урал
я к такому месту,
где Хор-Хай мне обещал
подарить невесту.
Еду, молод, утром - днем,
И в ночных потемках.
А доеду стариком
До любимой тетки».
- Ваше слово, товарищ Маузер? - выдал вопросительную интонацию Ливик Генделист.
- Текст одобряем, - произнес я с характерным для Отца народов акцентом.
- На первую полосу?
- Э, нет! - переключился я на картавость, подражая знаменитому Щукину из фильма «Ленин в Октябре». - Архисложно давать на первую полосу вашу рифмованную галиматью, голубчик. Буржуазия не поймет, а народ не простит, скажет: верхи не могут, а низы не хотят. Вот если прибавить про соцобязательства, взятые к столетию Ильича, тогда и обернется ваш текст необходимой для передовой «газетной» правдой.
- Товарищ Маузер, а нельзя ли по существу, без «газетной» правды?
- Можно. «Правды» нет, «Труд» стоит две копейки, - подкинул я обиходную шутку. - «Советскую Россию» продали, остался «Латвийский моряк», да и он у нас сегодня для гостей редакции бесплатно.
Я протянул Ливику номер газеты с плакатным Лениным и стихами, посвященными его столетию:
«Мы с Ильичом –
К плечу плечо –
Идем,
Весне внимая.
Горят знамена
Кумачом
Зари
И Первомая».
Ливик пробежал глазами по рифмованным строчкам:
- Оки-доки! «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Стихи того стоят – бесплатно. А музыка? Моя… Ты ведь слушал… сейчас. Можно ее продать? Ну, в РЭО, Раймонду Паулсу – на эстраду?
- Раймонд чужое не покупает. А музыка твоя, как обычно, в цене, - вернулся я к напускной иронии. - Однако Гендель в тебе звучит более выразительно, чем Лист. А вообще-то ты - Гендель-Лис, хитрый Лис, Ливик! Ты ведь не на «джем-сейшн» прихилял. Нужны тебе, гордому ливонцу, эти янки-дудл, с их джазом и местными слухачами из органов, как же! Тебе первая полоса нужна.
- Для песни сойдет и четвертая.
- Для песни и «подвал» газетный сойдет. Но я им не заведую. Потому и далеко до «подвала».
- На оленях, понимаю, ближе. Тогда я двину в зал, к братану твоему… Исполню…
- Больше налегай на Генделя. Но не забудь, от тебя еще требуется срочное распознание слова «Амдерма».
- Распознаем.
- Хорошо, тогда подкинь мне свой рукотворный текст. Я сейчас отшлепаю его на машинке. И оставлю Якову Семеновичу Мотелю – на прочтение. Авось и ему покажется с утра, что на оленях ближе.
- Ему не покажется, - пробурчал Ливик Генделист. - У него с утра похмелюги не бывает.
- Согласен, снегом он только на войне закусывал. Но я тут сделаю пометку, что этот стишок просится для колорита в подверстку к моим арктическим репортажам, которые буду гнать по рации с судна. Глядишь, и посоавторствуем.
- Пока что мы с тобой соавторствуем лишь по части выпивки, тебе половина и мне половина. - Ливик опорожнил бутылку и упрятал ее в нижний ящик стола. - Двенадцать копеек на черный день.
- Ничего ты, Ливик, не понимаешь.
- А что?
- Этот стишок Мотель, по всей видимости, как раз и напечатает. Есть в нем такой момент, о каком ты и не догадываешься.
- Оки-доки! Получается, я сам не знаю, что сочинил.
- А если знаешь, то объясни, откуда у тебя взялся «Хор-Хай»?
- Да из книжки об Амдерме! Написано - находится она на восточных склонах хребта Пай-Хой. А самое древнее поселение там - Хор-Хай. Заложено в таком допотопном году от сотворения мира, что не упомнишь.
- Ливик! Кем заложено?
- Кем надо, теми и заложено. Что я тебе – комсомолец на допросе? Пристал!
- А ты хоть усек, что значит «Хор-Хай»?
- «Хор» и по-русски – хор.
- На древнееврейском – дыра. «Хай» - живая. Получается, поселок твой называется – Живая дыра. Звучит очень симптоматично, если подумать о приросте народонаселения.
- Раз-цвай-драй! Язык – того… под запретом. Откуда свинтил информ-бля-шку?
- От Файвиша Львович Аронеса. Это отец Майрума, мужа моей сестры Сильвы.
- Бас-гитариста?
- Да... Папа его был знаменитый еврейский актер. Играл в Харькове, Минске, Биробиджане, снимался в фильме «Граница», переводил Маршака на идиш, писал книги. Пока не посадили. Когда? В конце сороковых. После убийства Михоэлса. Сейчас пенсионер. От него и набрался словечек разных. Все-таки язык, на котором Соломон Мудрый говорил.
- А не боишься разоблачаться?
- Перед тобой – нет. Ты же сам запретный язык закамуфлировал под родную мову. Стихи на нем слагаешь, как наш классик царь Давид – псалмопевец.
- Положим, не на нем. А что? Думаешь, Мотель клюнет на «Хор-хай» и напечатает?
- Еврей! Когда распознал, что среди 26 бакинских комиссаров чуть ли не треть евреи, тут же, под какой-то юбилей - кажется, пятьдесят лет с расстрела - дал о них разворот. С фотографиями, фамилиями, и с неблагозвучными именами-отчествами. Перепечатал из «Моряка Каспия». И твой «Хор-хай», помяни мое слово, даст. В подверстку к моему репортажу. Как образец местного фольклора.
- Но с моими позывными!
- Не обидит твою фамилию, Ливик. А потом будет у меня выпытывать: еврей ли ты скрытый.
- Я не еврей. Во всяком случае, по паспорту.
- Так я Мотелю и скажу: по паспорту Ливик Генделист не еврей.
- А что? Это важно?
- В каком-то смысле – да. Увереннее себя будет чувствовать, подписывая газету с твоими стихами в печать.
- Оки-доки! Тогда у меня для него есть еще один сюрприз. По второй твоей специальности, боксерской. Не 26 бакинских комиссаров, но все же... Мотель твой обязательно клюнет и пальчики оближет. Материал на первую полосу!
- Не темни.
- Какая темень, когда сплошные звезды заграничного бокса? И все евреи!
- Ты уже и боксер?
- Наполовину. Практику у тебя проходил…
- Пару тренировок и один синяк не в счет…
- Полно тебе! Лучше слушай. Когда я был в последний раз у дедушки на Шкюню, 17, в Старой Риге, то выпросил у него книжку тридцатых годов о профессиональном боксе в Англии и Америке. Там тьма тьмущая евреев. От мухачей до тяжей. Имена знаменитые, а поди ж ты, кто знал, какой они национальности. Так что оказывается, ты у нас не единственный чемпион из евреев…
- Книжка с собой?
Ливик вытащил из-за пазухи конверт, а из него тоненькую брошюрку без обложки. По ее виду и не поймешь, в какой стране опубликована.
- Держи и приобщайся к памяти предков. Издано здесь, на ходовом для тебя языке – русском, еще в буржуазной Латвии. А я пошел давать гастроль.
Прихватив гитару, он двинулся из редакционного кабинета.
Я добрал со дна бутылки пиво и прислушался: в концертном зале уже не захлебывался мелодией саксофон, не стонала под сурдинку труба, не сотрясали воздух барабаны. «Фирмачи», видимо, ушли, а с ними ускользнули и топтуны-искусствоведы, остались свои ребята-выпивохи. Они и без ориентации на «блюзовый характер» поймут песни Ливика и оценят. Поймут, оценят, а потом, добавив по сто-двести, подхватят на два-три-четыре-пять голосов. И пойдут сами распевать: «самолетом далеко, на оленях ближе»...
XXI век. Ассоциация вторая:
ЕВРЕЙСКИЙ БОКС С АНГЛО-РУССКИМ АКЦЕНТОМ
Мало кто знает, что евреи были среди зачинателей бокса. Понятно, всем известно, что бокс родился на берегах туманного Альбиона в 1719 году, когда местный силач, борец и фехтовальщик Джеймс Фигг был признан лучшим кулачным бойцом Англии. Он вызывал на поединок соперников и жестоко поколачивал их. Некоторых, зарвавшихся хвастунов – завсегдатаев паба, местная - алкогольного наполнения - общественность направляла к нему, так сказать, на перевоспитание. Наверное, тогда и появилось выражение: «послать на фиг!».
С незапамятных времен бокс стал называться «джентельменским видом спорта». Но далеко не джентельмены зачастую колошматили друг друга, чтобы добыть средства на пропитание семьи.
Одним из самых знаменитых английских чемпионов 18 века слыл Даниэль Мендоса. Он родился в лондонском Ист-Энде 5 июля 1764 года в небогатой еврейской семье. У его родителей насчитывалось 11 детей, и каждый получил достойное образование. В том числе и Даниэль, который настолько освоил грамоту, что впоследствии, став прославленным боксером, написал несколько книг, в том числе и мемуары. По ним можно судить, что он, как и положено приличному мальчику Ист-Энда, ходил в еврейскую школу, изучал английский и иврит, математику, другие предметы. И довольно часто, как не положено приличному мальчику, дрался на улицах, пуская кровь из носу мелким антисемитам и прочим обидчикам маленьких. Его заприметил кумир детворы – известный боксер Ричард Хамфрис, и взял над ним шефство. Уже через неделю никому не ведомый шестнадцатилетний подросток бился с профессионалом и, дав во всю охотку ему по зубам, получил свой первый в жизни гонорар. Деньги, как легко догадаться и в нашем 21 веке, никогда не бывали лишними в многодетной еврейской семье. Так что Даниэль Мендоса, притащив домой первую «боксерскую получку», заслужил отцовское позволение на дальнейшее «выбивание денег при помощи кулаков».
Надо признаться, выбивал он их успешно.
На ринге молодой лондонец выступал под именем «Еврей Мендоса». А болельщики-соплеменники негласно называли своего любимца «Свет Израиля», как бы намекая, что он в какой-то мере повторяет героические подвиги царя Давида, который укокошил непобедимого великана Голиафа. И, действительно, его бой против многопудового мясника Мартина напоминал схватку Давида с Голиафом. А проходил он в присутствии принца Уэльского, наследника трона. Выигать при таком свидетеле было не просто престижно, но и необходимо. И не только ради упрочения еврейского самосознания. Финансовый мотив тоже играл не последнюю роль. Денежный приз – это тебе не фунт изюма. Правда, он тоже выдавался в фунтах. Но в каких? С портретами сиятельных особ из королевской фамилии! Согласитесь, 1000 фунтов за бой – это и сегодня не плохо, а в 1785 году подобный куш представлялся просто баснословным. Короче говоря, 21-летний Даниэль, готовящийся к женитьбе, не пожалел себя и, разумеется, противника. «Свет Израиля» лупил здоровенного мясника с таким поэтическим вдохновением, что ему аплодировали все, включая и «самого главного» из присутствующих на матче болельщиков - наследника английского престола принца Уэльского.
Вскоре после этой победы «Еврей Мендоса» стал сильнейшим боксером Англии и открыл собственную школу. Нокаутируя раз за разом титулованных противников, он превратился в кумира детей и взрослых.
«Даниэль Мендоса! Даниель Мендоса!»
Его имя мелькало в стихах, песнях, пьесах и книгах. О нем слагали легенды. Его приветствовали на улицах и в зрительских залах. А этот великий чемпион еврейского происхождения, помимо нанесения черепно-мозговых травм противникам на ринге, писал исключительно полезную для спортсменов книгу «Искусство бокса», выход которой в свет явился подлинной сенсацией. Произошло это в 1789 году. С некоторой самонадеянностью можно утверждать, что с появлением этого первого в мире я бы сказал «учебного пособия для студентов из институтов физкультуры» и родился современный бокс. Недаром ведь последователи Мендосы, знаменитые боксеры той эпохи, называли его «учителем боксеров на научной основе».
Сегодня эта книга, на которой выросло несколько поколений знаменитых кулачных бойцов прошлого, исторический раритет. Редко в какой библиотеке ее увидишь. Но об основных постулатах боксерского учения «Еврея Мендосы – Света Израиля» не трудно догадаться. В особенности мне, прожившему на ринге вот уже пятьдесят лет.
Основные составные бокса – это реакция на удар, комбинационное мышление, контригра.
Все это есть у каждого человека, независимо от национальности. Ну, и у евреев, конечно. Причем, с избытком. В Израиле это видно невооруженным взглядом. Чего нет – так это желаемых материальных вливаний для развития бокса. И посему еврей в Израиле, пусть и является истинным сокровищем для кулачного боя, но кулачный бой, если и дальше придерживаться шутливой формы изложения, не является сокровищем для еврея в Израиле.
В 1980-м, вскоре после репатриации, я убедился в этом воочию.
Тогда, будучи тренером, я выставил одиннадцать своих воспитанников на первенство Иерусалима. Восемь из них сошли с ринга победителями. Затем я мотался по их домам, чтобы вытащить чемпионов на тренировку.
- Тренировка? Зачем? - говорил мне отец одного из них, потомственный продавец-бакалейщик. - И теперь можно вывесить его золотую медаль в лавке. Покупателей прибавится. А в остальном... Бокс – не футбол. За мордобой у нас не платят. И пойми, учитель бокса, завтра – армия. В армии какой спорт? Лечь-встать, лечь-встать, шагом марш! А после армии – путь земной не в чемпионы, а в отцы семейства. Таков круговорот вещей у нас в Израиле...
Все мои доводы о том, что первенство Иерусалима – это всего лишь первая ступенька на пьедестале спортивного почета, разбивались о логику израильской жизни.
В 1985-м, когда в Иерусалимском клубе бокса братьев Люксембург я судил за рингом на соревнованиях юных мастеров кожаной перчатки, один из участников финальной схватки опроверг, к моей радости, эту формулу. Мальчишка лет пятнадцати, которому я дал весомое преимущество в очках за техническое ведение боя, после оглашения победы перескочил через канаты ринга и…
Такого еще не видели в этом спортивном зале. Он бросился ко мне в объятия.
- Учитель! Ты меня узнаешь?
Я его не узнал. Но вспомнил мою команду из Неве-Якова пятилетней давности и подумал: должно быть, этот мальчуган из тех моих воспитанников. Скорее всего, из тех трех, кто тогда проиграл. Только проигрывающие поначалу способны переломить судьбу и побеждать, побеждать.
Бокс – это характер. А отнюдь не развитые мышцы.
Вспомним классические примеры.
Обладатель кубка Баркера, олимпийский чемпион в Токио Валерий Попенченко слыл хлюпиком и был неоднократно бит Лопоухим с Самотеки. Гроссмейстер ринга, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин тоже пошел в бокс не от природных дарований. Кстати, рельефом а-ля Арнольд Шварценеггер не обзавелся и на пике своей карьеры. А Королев? Шоцикас? Енгибарян? Шатков? Григорьев? Агеев? Баранников? Абрамов?
Фейерверк имен. Каждое – легенда.
И тут дошлый друг детства 106-килограммового Андрея Абрамова, трехкратного чемпиона Европы в тяжелом весе, может ухмыльнуться: автор загнул! Уж кого-кого, а Андрея записывать по малолетству в дохляки, ха-ха! Лично мне бил морду еще в первом классе!
Оставим битые морды. Хотя... может быть... с них и начинается для некоторых мальчишек с развитым чувством человеческого достоинства путь к рингу. У еврейских мальчишек Советского Союза оно родилось сразу же с открытием первых боксерских клубов. «В созданном в 1923 году спортивном обществе «Динамо» была организована секция бокса, вырастившая первых чемпионов Советского Союза, – пишет профессор Константин Градополов. – Владимира Езерова, Якова Брауна, Александра Павлова, Федора Бреста, Александра Гольдштейна». Кто из них евреи? Об этом Константин Градополов в своей книге «Бокс» не упомянул. И понятно: на национальности спортсмена нет особого смысла заострять внимание читателя, если ты и твой читатель – не евреи, и вас никогда не упрекали в том, что вы бежите от «опасных» видов спорта так же, как во время войны с передовой в Ташкент. А так как мы евреи, и нас упрекали, то я позволю себе составить таблицу первых чемпионов Советского Союза по боксу. Будет о чем поразмыслить нашим соплеменникам, увлекающимся на досуге игрой «Кто? Где? Когда?»
1926 год. Первый чемпионат СССР по боксу.
Имена обладателей золотой медали.
Наилегчайший вес - Владимир Руктешель.
Легчайший вес - Федор Брест.
Полулегкий вес – Лев Вяжлинский.
Легкий вес – Александр Павлов.
Полусредний - Яков Браун.
Средний – Константин Градополов.
Полутяжелый – Алексей Анкудинов.
Тяжелый – Владимир Езеров.
В последующие годы, в условиях жесткого боя, когда евреи сражались на сером квадрате сразу с двумя противниками – с живым, реальным, вооруженным десятиунциевыми перчатками и стоящим за ним Голиафом – антисемитизмом, они умудрялись год за годом становиться лучшими из лучших, оставаясь зачастую «невыездными» и следовательно «непригодными для употребления» на чемпионатах Европы и Олимпиадах. Вот их имена...
Наилегчайший вес – Лев Сегалович, чемпион СССР в 1940 и в 1944 – 1948 гг.
Наилегчайший вес – Владимир Ботвинник, чемпион СССР в 1959 г.
Первый полусредний – Герман Лободин, чемпион СССР в 1951-1952 гг.
Первый полусредний – Леонид Шейкман, чемпион СССР в 1957 и 1959 гг.
Первый средний – Владимир Коган, чемпион СССР в 1949 г.
А теперь вопрос на засыпку. Кто установил рекорд «живучести» на высшей ступеньке пьедестала почета? Напоминаю, Анатолий Грейнер.
1937 г. – чемпион СССР в полулегком весе, тогда он представлял Харьков, потом Москву.
1946 – 1949 гг. – четыре раза подряд чемпион СССР в легком весе.
Напомним, в 1941 – 1943 годах первенство СССР не проводилось из–за войны.
1951 г. – чемпион СССР в легком весе.
1953 г. – чемпион СССР в легком весе.
Итого, семикратный чемпион СССР. Разумеется, был и вторым и третьим на различных соревнованиях. Но прикиньте, чего стоит «золото», выбитое в 1953-м, в пору «убийц в белых халатах», «наймитов Джойнта» и смерти Сталина. Но отбросим эмоции. Обратимся к математике. С 1937 по 1953 год Анатолий Грейнер был первой перчаткой самой мощной боксерской державы мира. Сколько же лет? Шестнадцать. По сути дела, четыре Олимпиады. Такому долгожительству в боксе можно позавидовать.
И, помнится, в 1963-м, когда Анатолий Грейнер, весь увешанный медалями, вручал мне и моим товарищам по сборной Латвии спортивные награды, мне, восемнадцатилетнему, и не представлялось, что и через сорок пять лет я буду так же стоять на ринге и (правда, из других рук) принимать очередную золотую медаль чемпиона.
Но уже не чемпиона Прибалтики, а запредельного по тем временам Иерусалима.
Как никак в 2008 году исполнилось ровно пятьдесят лет моим выступлениям на ринге. Первый бой я провел в возрасте 13 лет в далеком 1958 году. Впервые стал чемпионом Латвии в 1962-ом, выступая за СКА (Рига), последний раз на пьедестал почета первенства Латвии поднялся в 1978-ом, перед отъездом в Израиль, тогда защищал цвета спортобщества Даугава (Рига).
50 лет на ринге…
Такого мирового рекорда история бокса не знает. И вряд ли возможно повторить подобное: ведь возрастной предел в любительском боксе – 34 года.
Вообще, когда я умозрительно прослеживаю свой боксерский марафон, то мне бросается в глаза, что каждый новый двадцатилетний отрезок своей жизни с 13 лет - «бар-мицвы», совершеннолетия по-еврейски - я начинаю с бокса. Дело в том, что первый раз после более чем десятилетнего перерыва я вернулся в бокс в 33 года и вновь завоевал титулы моей молодости. Это было в Риге, в 1978 году. Второй раз, и опять после многолетнего перерыва, теперь уже в 18 лет, я вернулся к боксерским перчаткам в 53 года. Это было в Иерусалиме, в 1998 году. И с тех пор неизменно становился чемпионом открытого первенства нашего Вечного города. Соревнования проводятся у нас дважды в году и на них съезжаются лучшие спортсмены из многих городов Израиля – Тель-Авива и Натании, Хайфы и Эйлата, Петах Тиквы и Холона, Кирьят Гата и мошава Азария Нешер.
23 ноября 2007 года по первому каналу израильского телевидения демонстрировали репортаж об открытом первенстве Иерусалима по боксу, посвященном памяти израильского сапера Стива Хильмса, погибшего у Могилы Рахели, на полпути между Иерусалимом и Бейт Лехемом – Вифлиемом, при разминирование взрывного устройства, подложенного террористами. Показывали и мой бой, победив в котором я стал в 19-й раз подряд чемпионом нашего вечного города. Вот что об этом писала израильская пресса.
Элиягу бен Мордехай
из статьи:
ТУРНИР ПАМЯТИ СТИВА ХИЛЬМСА
(об открытом первенстве Иерусалима по боксу)
газета «Репортер» - приложение к еженедельнику «Новости недели».
29 ноября 2007 года.
Израиль.
Максимальный возраст бойцов в любительском боксе - 34 года. Фима Гаммер чуть ли не вдвое превышает сей возраст. Однако располагает справками от врачей, особым разрешением Всеизраильской федерации бокса. Ходят слухи, что Гаммер внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший из действующих спортсменов в мировом любительском боксе. Он был чемпионом Латвии, Прибалтийского военного округа, неоднократным чемпионом Израиля. Толпы болельщиков ходят на бокс исключительно из-за него. У этого человека масса талантов. Он писатель и поэт, отмеченный международными премиями, график и художник - победитель всевозможных конкурсов, обладатель множества медалей и дипломов. В быту он журналист радио РЭКА - Голос Израиля.
Жребий свел Фиму Гаммера с его одноклубником Никой Доуэлем (полулегкий вес). Оба воспитанники тренера Гершона Люксембурга, оба знают слабые и сильные стороны друг друга. Все три раунда прошли в плотном напряженном темпе. Наступательный стиль не принес Нике желанного преимущества. Фима был быстрее, разнообразнее. Трюки и финты его тут же переходили в контратаки. Парадоксально звучит, но старость переиграла юность. Гаммер, разменявший седьмой десяток, в очередной раз стал чемпионом Иерусалима и получил золотую медаль и кубок «за самый красивый бой».
Согласитесь, это ведь своеобразное чудо – получить боксерский кубок «за самый красивый бой» в возрасте, когда исполняется пятьдесят лет со времени первого выхода на ринг.
4.
На рассвете меня опять разбудил телефонный звонок импортного производства, дающий надежду на что-то хорошее. Однако и в этот раз, на противоположном конце провода топтался неугомонный Ливик Генделист, проведший остаток ночи, как выяснилось не в баре Интерклуба моряков загранплавания у кружки пива и красных, как первомайские транспаранты, раков, а за познавательной книжкой.
- Оки-доки! - доложил он. - Полное распознание слова «Амдерма» у нас состоялось. Пострадавших нет.
- Древнее слово?
- Древнее, древнее. Почитай, со времен динозавров.
- Динозавры вымерли, Ливик.
- А слово осталось.
- Ну, расшифровывай.
- Чего расшифровывать? - понес на скоростях Ливик: - Я тебе цитатку выложу, как из учебника. «До наших дней, - говорится в книжке, - дошло предание о происхождении названия поселка Амдерма. Однажды охотник-ненец, плывший на лодке по Карскому морю, увидел на побережье многочисленную залежку ластоногих. И пораженный, воскликнул «Амдерма!». В переводе это – «лежбище моржей». Потом первопроходец-ненец привел сюда своих родичей. Они поставили на берегу чумы, образовали стойбище. С той незапамятной поры это местечко так и называется - «Амдерма».
- Ливик! А на каком языке воскликнул ненец? Не сказано?
- На древнем, должно быть.
- Каком – древнем?
- Матерном, полагаю.
- Не городи чепухи!
- Почему – «чепухи»? Слушай сюда! Продаю информ-бля-шку на первую полосу. В последний раз, когда я был в Интерклубе, там выступал Ролан Быков.
- Вчера там выступали заезжие лабухи, Ливик! Забыл?
- Не лови на слове. У меня присловье такое, для девочек, чтобы вешать лапшу на уши.
- Мне не вешай.
- Тогда гони уши к пониманию, слушай сюда.
- Слушаю.
- Знаешь, что рассказывал Ролан Быков? А рассказывал он вот что… Ладно, моему изложению на вольную тему ты не доверяешь. Оки-доки! Секундочку терпения: раз–цвай–драй! Открываю журналистский блокнотик, и… Теперь слушай. Запись, как с магнитофона «Яуза». Читаю вслух: «чтобы правдиво сыграть роль скомороха у Тарковского в том самом «Рублеве», что на наши экраны не вышел, Ролан Быков по блату пролез в Спецхран, где хранились оригинальные тексты этих шутников-затейников пятнадцатого запойного века. И что? Последние волосы потерял от удивления! Древние тексты наших предков-юмористов представляли собой сплошной русский мат». Конец записи – в вольном моем изложении. Годится на первую полосу?
- Ливик, я интервью с Роланом Быковым напечатал еще три недели назад.
- С матом?
- Без мата.
- Оки-доки! С тобой все понятно. В современную газету с древним языком – ни-ни! Выпрут. Но под ледяным солнцем чем еще греться ненцу? Какой к нему там древний язык может пожаловать, кроме русского мата?
- Ливик! У нас только один древний язык остался, да и тот под запретом. Не соображаешь?
- Динозавры вымерли, а язык остался. Опять за свое. Так, что ли?
- Кстати, Ливик. А динозавры тут при чем?
- Динозавры там, под землей, в вечной мерзлоте. Они всегда «при чем», если покопаться в прошлом.
- Об этом тоже есть в книжке?
- В книжке больше о мамонтах, - пояснил Ливик.
- А о ненцах нет ли чего путного? Откуда они явились, от кого произошли?
- Все мы произошли от Адама и Евы. Что тут неясного?
- И динозавры?
- Динозавры вымерли…
- А евреи остались, - машинально выдохнул я.
- Вот и поезжай к вымершим. Вдруг живого динозавра откопаешь среди вечной мерзлоты.
- Мне эти «живые» уже два года не выправляют визу в загранку. Это мне – морскому журналисту! А я ведь тоже не прочь сходить в Канны – на фестиваль. Заглянуть на виллу Бельведер в Грассе, где Бунин написал «Жизнь Арсеньева», за что и получил Нобелевскую премию в тридцать третьем году. Или отчего не махнуть в соседнюю Ниццу – посмотреть знаменитые витражи Марка Шагала? А оттуда - небольшая ходка вдоль моря, километров на сто с лишком - и, пожалуйста, Монако, Монте-Карло, казино, и загребай шальные деньги в рулетку.
- А к северному сиянию - слабо? К белым медведям, в Арктику, можно сходить и без визы.
- Но не к африканским бабуинам…
- По бабам и в Африку нельзя. Се-ла-ви! Такая она житуха!
- Полное пузо, но рваное ухо, - срифмовал я.
XXI век. Ассоциация третья:
АУ, ДИНОЗАВРЫ!
Динозавры жили-жили, и вымерли. А евреи остались. Древнейшая нация, что тут поделаешь. И как выяснилась, очень несимпатичная динозаврам. А почему? Да по той простой причине, что природе динозавра юмор противопоказан. А природе еврея, как раз наоборот, юмор – точно манна небесная.
Возьмем для примера доисторических динозавров. Библейский богатырь Самсон бил их насмерть десятками. И чем? Обычной ослиной челюстью. А они, получая удары могучие, не понимали, в чем тут юмор: в ослиной челюсти или в убойной силе кулаков? Наконец выяснили через подставных людей, что сила кулаков Самсона зависит от длины его волос. Юмора динозавры и на этот раз не поняли. Но богатыря на всякий пожарный случай, заманив в ловушку, остригли, ослепили, и стали ждать, когда отрастут его волосы. Своего они таки дождались. Даже похоронить потом было некого.
Самсон раздавил всех в лепешку.
Кто ныне о них помнит? Особенно – поименно. А богатырь остался. В нашей памяти.
Возьмем для примера вполне исторического динозавра. По прозванию Голиаф.
Выставили против него, чужеземного великана, вифлеемского пастушка Давида, златокудрого псалмопевца с голубыми глазами, ростом – метр, шестьдесят три см. Не проникся чужеземный великан еврейским юмором. Воспринял его за насмешку над видом своим свирепым, над мощью своей звериной. А чего, спрашивается, не понять в этом юморе? Сказано ведь было в его адрес доходчиво, с намеком: «Морда у тебя кирпича просит!» Сказано не в бровь, а в глаз, куда и закатали из пращи камушком.
С тех пор и пошло: «Юмор – дело серьезное, бьет не в бровь, а в глаз». А кого бьет? В основном, динозавров, которые, юмора не понимая, прут на нас и прут. А откуда, спрашивается, им валить на нас, если они, по научным предположениям, уже благополучно вымерли? Поясняю: оттуда, где вымерли, и прут. Из прошлого. Хотим мы того, не хотим, а они там, где вымерли, живут и размножаются. Оттуда и прут на нас.
Притягательная сила юмористического произведения в том, что каким бы «плохим» ни был литературный герой, писать о нем необходимо «хорошо», я бы сказал – «талантливо». Как делали это Аверченко, Саша Черный, Ильф и Петров, Зощенко и некоторые другие писатели.
5.
В самолете Ливик Генделист упросил меня составить обиходный словарик джазмена.
Без всякого напряга я поднял планку его музыкальной культуры, выдав достойную употребления в среде профессионалов фразу:
- Когда я в последний раз прихилял в Интерклуб, там лабали чуваки из Сакраменто. Мы посвинговали, не выходя за квадрат, кирнули и поберляли на шару. И не поверите, фирмачи меня пригласили лабать к ним, в Штаты.
- Про Штаты не стоит, - сказал Ливик, выслушав мою заумь. - А то примут за чистую монету, и донесут в первый отдел.
- Для этого надо хотя бы уловить смысл сказанного.
- Я уловил.
- Да ну?
- В переводе на нормальный язык это… - Ливик задумался: - Раз-цвай-драй! Когда я в последний раз «прихи…» Что?
Я подсказал:
- «Прихилял» - пришел.
- Ага. Значит так. Когда я в последний раз пришел в Интерклуб, там «лаба…» Что?
- «Лабали» - играли. Спросишь – «кто?» Отвечу: «чуваки из Сакраменто» - ребята из этого горбатого города, где проводят фестиваль диксилендов. Усек?
- Оки-доки, будь спок! Но переведи все до конца, а то у меня в мозгах уже кошки скребутся.
- О, кей! Наматывай на винт. «Посвинговали, не выходя за квадрат» - это, условно говоря, сымпровизировали, но с таким расчетом, чтобы никто из музыкантов не вышел за пределы отведенного для соло времени. Ну, а все остальное – проще пареной репы. «Кирнули и поберляли на шару»… Это - выпили и закусили бесплатно, за счет заведения. Годится, Ливик?
- Даже нравится. Бесплатно… За счет заведения… Как за границей…
- Тогда осваивайся на джазовом приволье. Зови стюардессу, и напомни ей: девушка, настала пора…
- Поберлять?
- Точно! Да ты полиглот!
- Но я и кирнуть не против.
- Кир, Ливик, при наших воздушных удобствах не предусмотрен. Не заграница. К тому же на иврите «кир» значит - «стена».
- Неприступная?
- Под нашими безалкогольными небесами, думаю, - да.
- Не скажи, - хитро усмехнулся Ливик: - Раз-цвай-драй! - и словно фокусник вытащил из потайного кармана форменной тужурки плоскую двухсотграммовую бутылочку с коньяком.
- Не переберем?
- За квадрат не выйдем. Время – за нас. Полярный день длится в Амдерме с 20 мая по 30 июля, полярная ночь - с 27 ноября по 16 января. Так что доберемся без опоздания.
С этими, очень полезными для почитателей Бахуса сведениями, нам и предстояло вступить на мурманскую аэродромную рулежку.
У входа в аэровокзал, на гулливеровом по размеру щите, выставленном для повышения самообразования туристов и аборигенов, мы прочитали-запомнили: «Мурманск - крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, в зоне распространения многолетней мерзлоты. Город покоится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, в 50 км от выхода в открытое море, в 1967 км к северу от Москвы и в 1448 км от Ленинграда».
На улице ни день, ни ночь, но именно та предвечерняя пора – очей очарованье, когда в портовом ресторане-стекляшке призывными маяками зажигаются огни.
- Вздрогнем? - Ливик Генделист щелкнул себя по кадыку.
Я пожал плечами:
- Если Родина прикажет, пацаны ответят – «есть!».
Но излишнюю инициативу за полярным кругом поостерегся проявлять. Для этой цели предназначались спутники.
За компанию с нами «тушка» закинула в моржовый край первого помощника капитана Якова Харламова, стармеха танкера «Юрмала», на морском сленге - «деда» Семена Огневецкого, старпома – «чифа» Алексея Рогычаева, который сразу после прибытия удалился по каким-то своим неотложным делам. В Мурманске нам предстояло встретиться с капитаном судна Владимиром Гальфериным. А где встретиться не уточнялось. И без того координаты были ясны. Порт. Административное здание морского пароходства. Второй этаж, а там - заведение известного типа, где питательные мясные калории неразлучны с предательскими - алкогольными.
Здесь и состоялась наша встреча.
Войдя в ресторанный зал, я чуть ли не обомлел. Полярная ночь! Сплошняком - черные форменки моряков торгового флота, а промеж них ни одного привлекательного цветового пятна, платьица что ли. Лицом к входной двери, у окна, потолок подпирает юбилейный вождь – картина из учебников для начальной школы – Ленин на броневике. В черном зале и Ленин, разумеется, тоже в черном. Стоит он в черном пальто, развивающимся под штормовым ветром, на крыше черного броневика. Левая рука цепко зажимает черную кепку. Правая тычет пальцем в небо, указывает впечатлительным клиентам направление. Внизу печатными буквами выведено: «Правильным путем идете, товарищи!».
Что ж, Мурманск – не Рио де Жанейро. Да и не Рига - маленький Париж янтарного края. Такого избыточного изобилия черного цвета у нас даже в Интерклубе не встретишь. Кругом - пестрота от инвалютных нарядов девушек с факультета иностранных языков. А тут черные мундиры, черные тужурки, черные галстуки. Орнамент - черные усики или черные шкиперские бороды. В ярком свете люстры – черный дым свирепых кубинских сигарет «Портагос», либо трубок кустарного производства, от ленинградского мастера Петрова, благоухающих амстердамской «Амфорой». Смесь запахов, кулинарных и табачных, достойная плодовитого пера Хемингуэя. И все это великолепие пропитано притягательными водочными парами. Так что эффект полный: еще не подойдя к стойке, испытываешь неистребимое желание напиться.
Впрочем, стойки и не было в наличии. Была эстрада, на четыре стула и пюпитра. Но без оркестра. Были официантки. Две голенастые подавальщицы, в белых фартучках на черных, в обтяжку, платьях и кружевных накрахмаленных коронах на завитых головках.
Были столики. Десятка два-три. Все заняты, кроме первого. Первый стоял напротив входной двери, под портретом Ильича, указывающим нам верный путь. По негласным правилам, как мне думается, за этим столиком набираться до кондиции возбранялось. Поэтому сознательные люди и сторонились его, оставляя свободным для малопьющих. В Мурманске малопьющих не было. Это и вызвало к нам повышенный интерес.
Сначала, как положено, со стороны официантки Машеньки, в черном платье в обтяжку и белом фартучке.
- Что будем пить? Что будем есть?
Она очень удивилась, когда, заказав обед, мы снарядили под него всего один графинчик коньяка, грамм по сто на трезвого человека. Под кофе, так сказать, для мажору.
Потом интерес к нам перекочевал к двум длинноногим девушкам, явившимся неведомо откуда, возможно, из кухни - и сразу попросившимся под наше крылышко, будто мы из подвида тех залетных птиц, что носят золотые яйца. Яйца же у нас были обычные, и не для заклада в ломбард. Плеснув в их рюмки, я даже начал было читать одной из девушек стихи собственного приготовления: «А я тебя еще не встретил, не знаю, что тому виной, порывистая, словно ветер, еще не узнанная мной…».
Ливик Генделист тоже попытался намекнуть, что именно эту девушку он не встретил. Но особенно не выставлялся. Ситуация у него, в отличие от меня, была сложная: не повыпендриваешься, будучи рядовым коком, в окружении капитана, первого помощника и стармеха. А комсоставу, при подчиненном коке и неподчиненном «третьем глазе - журналисте», тоже не до заигрываний с прекрасными незнакомками. Так что девушки могли бы для своих прогулок подальше выбрать закоулок, здесь – «непрохонже».
Потом интерес к нам принял совсем неожиданную форму. И выразил его матерый мореход преклонных арктических лет. Местный, массивный, как шкаф, капитан. И столь же малоподвижный. Направляясь в туалет по малой нужде своего просоленного в штормах организма, он, качнувшись, остановился у нашего столика. Развернулся всем корпусом и, указав пальцем на капитана Гальферина, недоуменно провозгласил: «Еврей – моряк!» Подумал секунду, обкатывая во рту вкусовое слово. И снова, с тем же недоумением: «Еврей – моряк!».
И – тишина! Тишина, таящая взрывоопасную искру отчуждения в участившихся табачных выхлопах под потолком. «Еврей – моряк!» Подумаешь! Ну и что в том такого? Чем тебе не по нутру, что еврей? Отчего тебя воротит? Видеть в нем равного себе – вот что тебе не по душе. Оттого и остановился. Оттого и пальцем показал, недоумевая. Как это так? Еврей, и не завмаг, не продавец газированной воды. Моряк! А какой из еврея моряк, когда он еврей?
Во мне мгновенно сработала боксерская реакция. И я, резко встав во весь свой невеликий рост, четко выложил:
- Заткнись, антисемитская морда!
И – еще более глубокая тишина. Теперь уже полнейшая тишина и за нашим столиком.
Что такое капитан на судне? Это фельдмаршал, это министр, это непререкаемый хозяин твоей жизни.
Матерый мореход преклонных арктических лет стал жадно хватать воздух, будто сердце его зашкаливало. В глазах высветилось непонимание, переходящее в помрачение рассудка: «Как это так? Ему? Ему – капитану! Ему – морскому волку! И кто? «Салага» двадцати с лишним лет?» Вот это – «кто?» - и перебороло его открытое желание разорвать меня на части, уступило место – страху. «Кто?» - читалось в его глазах, когда он медленно поворачивался и, тяжело неся себя, двинулся в туалет по малой - теперь и большой - нужде своего просоленного в штормах организма.
Девушки, напросившиеся к нам в компанию, как-то незаметно слиняли. Недочитанные стихи, типа - «Еще не узнанная, где ты? Как долго мне осталось ждать?» - выветрились из головы.
Мы выпили по коньяку и закусили спрессованным в пахучую табачную лепешку воздухом.
Напряжение в ресторанном зале росло. Представьте себе, вы в питейном заведении, и нигде вокруг не слышно ни заздравных тостов, ни бульканья разливных пивных бутылок, ни постукивания вилки, гоняющейся по дну тарелки за маринованным грибком. И тут к нам подошел рослый, под два метра, моряк с лычками старпома. И обратился напрямую ко мне, как бы не замечая моих спутников:
- Почему ты оскорбил моего капитана?
Я опять встал в полный рост, отнюдь не впечатляющий: метр, шестьдесят три см. Доставал всего лишь до плеча своего противника. И машинально, уподобляясь одесским предкам, ответил через стол вопросом на вопрос:
- А почему он оскорбил моего капитана?
Капитан Гальферин поднял на меня глаза. И дал мне прочитать в них нечто такое, что мог понять именно я, и никто другой. Я и понял. Но сказать, что понял, был не вправе никому, и в первую очередь старпому с «вражеского» судна. А он, видя мою непримиримость и не постигая умом, что за «высшая воля» диктует мне столь наглое поведение, предложил выяснить отношения наедине – за его столиком.
Провожаемый, как в покойницкую, я не подавал виду, что вмазался в пренеприятную историю. Чем она способна закончиться при пьяных разборках? Это одному черту известно. Но при любом раскладе, со смертельным исходом, либо с элементарным мордобитием, на повестку дня выставлено: быть или не быть. Моя козырная карта – еврейская честь, его – виза моряка загранплавания.
Мы угнездились за столиком.
- Степан Антонович, - представился мурманский моряк.
- Ефим Аронович, - ответил я.
- Я здесь – по делу. В море, без малого, двадцать лет хожу.
- Мили на километры мерим?
- Что?
Насмешка «западника» смутила арктического волка.
- Чиф! - повысив голос, старпом назвал свою должность на морской манер.
- Специальный корреспондент газеты «Водный транспорт», журналов «Морской флот» и «Вымпел».
В последнюю секунду меня осенило – на чем играть. Моя козырная карта для партнера по игре в «быть или не быть», разумеется, не в том, что я еврей, и не в том, что я из «Латвийского моряка». Убийственно для него могут прозвучать только центральные московские издания «Водный транспорт», «Морской флот», «Вымпел», где я и впрямь довольно часто печатался.
По беспокойству, промелькнувшему в расширенных от гнева зрачках Степана Антоновича, я увидел: попал в точку. Больше всего «загранщики» остерегаются встреч в поддатом состоянии с въедливыми журналистами: слово за слово, и мордой сунешься по пьянке в фельетон, выпадешь в бичи, как в осадок, а то и визы лишишься.
- Машенька! - позвал Степан Антонович пробегающую мимо официантку. - Коньяка!
С некоторым изумлением Машенька посмотрела на него, человека, по всем алкогольным статьям, скорее водочного направления в искусстве веселия на Руси, но, припомнив, что и мы не портвейн заказывали, кивнула:
- Несу! - и поспешила в буфет.
За нашим столом тягостно затягивалась минута молчания.
На исходе минуты появилась Машенька. С бутылкой.
- Вот, Степан Антонович… Что заказывали…
Старпом разлил по граненым стаканам: себе и мне.
- Будем! – сказал.
- Будем! – ответил я.
В жизни я еще никогда не выпивал разом полный стакан коньяка. Мог опростоволоситься. Не допить. Поперхнуться. Слезы от избытка горячительных градусов пролить. Но честь еврейская была дороже. Выпил. Посмотрел на старпома. Он посмотрел на меня. Потом на Машеньку, которая, будто в ожидании второго отделения концерта, не отходила от нас.
- Машенька, - сказал старпом. - Повторить!
- Несу!
Еще одна минута тягостного молчания медленно разменивалась на секунды за нашим столиком. И вдруг я осознал: эта тишина, как заразная болезнь, передалась всем зрителям ресторанного представления. Причем, с той же непостижимой силой, как прежде, когда было произнесено: «Еврей – моряк!».
Автор этого высказывания, кстати, так и не возвращался. За него «горбатился на швартовке» Степан Антонович.
- По второй! - сказал он, и опять разлил поллитровку. Опять на два стакана, вровень, до краев. - Будем!
- Будем! – ответил я, чувствуя всей душой, что мой питьевой подвиг никто не оценит, и более того, впоследствии «никто не узнает, где могилка моя» - ведь предстояло подниматься на танкер «Юрмала» не у причала, по переходному мостику, а в открытом море, по свисающему за борт шторм-трапу.
Выпив второй стакан, я услышал:
- Ты свой парень!
Я был еще трезвый. Я еще трезво ответил:
- Я свой! – и повернулся к официантке: - Машенька!
Машенька тут же откликнулась:
- Несу!
Третью бутылку по стаканам разливал я. И ни капли не пролил.
- Будем?
- Будем! - ответил Степан Антонович. - А о чем ты будешь писать в свою газету? Про нашу встречу будешь?
- Про нашу встречу не буду.
- Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпили – поговорили. А о чем будешь? Про моего капитана будешь?
- Не буду про твоего капитана!
- Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпил – поговорил, заснул небось в сортире. А о чем будешь?
- Про своего капитана писать буду.
- Правильно, Ефим Аронович, пиши про своего капитана. А чем он знаменит?
- Напишу – узнаешь.
- Правильно, Ефим Аронович! Нам не к спеху. Пусть только не обижается на «еврей-моряк».
- А он и не еврей! Еврей – наш «дед» Семен Огневецкий.
- Что?
Тайна капитана Гальферина заключалась в том, что, располагая специфической еврейской внешностью, он был русским. И не только по паспорту, но и по воспитанию. (Это я знал от его друга детства Изи Манова, с кем прежде работал на заводе №85 ГВФ.) Но еврейская внешность досталась капитану Гальферину не случайно. Наследственно перешла к Владимиру Александровичу внешность еврейская.
Его родителей расстреляли в Бабьем Яру. 29 сентября 1941 года.
Он же в тот день родился заново.
Из очереди евреев, идущих по киевским улицам к смерти, его вытолкнул Изя Манов.
Добрые люди подхватили беглеца, спрятали, уберегли от доносчиков. А потом и усыновили. И он вырос в русской семье, приняв национальность спасителей. Да и как могло быть иначе в оккупированном Киеве? Скажи кому ненароком, что прячешь еврейского ребенка, и сам окажешься в могильной яме. Вот и не сказали, вот и вырастили, отдали в мореходку и вывели в люди. И совсем не для того, чтобы какой-то другой русский человек, демонстративно указывая на него пальцем, говорил во всеуслышанье: «Еврей – моряк!»
Не для того…
XXI век. Ассоциация четвертая:
ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВЕТА
Все случается на белом свете.
Случаются на белом свете и люди, подобные Изе Манову, заживо похороненные, но живые.
Изя - воплощение чуда. Один из немногих.
Бабий Яр поглотил его мать и отца. Бабий Яр поглотил его детство.
Было ему немногим более десяти лет. Он жил в пору расцвета чувств, когда – «мы не рабы!» - звучало в нем восторженной медью оркестра.
Каждый день приходил он со школы в родительский дом в полной уверенности, что родительский дом незыблем, как тепло материнских рук, солнечный свет, вишня в саду.
Изя Манов родился в Киеве, на Подоле. Он вырос среди боевых сорванцов, пропахших Днепром, медовым воздухом и семечками.
Он знал в лицо всех. И все знали его в лицо. И евреи, и украинцы, и русские. Изя был счастливым человеком: он знал всех, все знали его, и у него было все, что нужно для счастья - родина, родители, брат Моня и друг Володя Гальферин, с кем они сидел за одной партой в школе.
В детстве жизнь кажется вечной. В детстве невозможно себе представить, что люди смертны, что всего через срок небольшой, когда лето склонится к осени, не будет уже ни мамы, ни отца, ни приятелей, с кем распевал «три танкиста, три веселых друга - экипаж машины боевой». Будут выстрели, кровь и крики страданий. И тела, тела, тела... летящие в ров... на него, Изю Манова, лежащего, затаясь, на дне... вздрагивающего от толчков сердца, которое, если бы мог, он заставил бы силой воли остановиться. Сердце могло выдать его своим оглушительным стуком: все еще живет... живет!.. живет!.. уже не имея права на жизнь.
Сердце с болью и грохотом било в грудную клетку, перекрывало выстрелы и вопли. И Изя оглох от страха за сердце, яростно предающее его. Он рвался тщедушным тельцем - к солнцу, заслоненному трупами, к небу, зачеркнутому упавшими на его глаза женскими волосами.
Его, скользкого от льющейся сверху крови, сдавил мертвой хваткой старший брат Моня. И прошептал: «не двигайся!». Прошептал почти неслышно, едва разлепляя губы, чтобы не качнулась над ними груда обмякших тел.
И Изя отдался силе брата, не выскользнул из его цепких рук, не пополз по мертвому лабиринту наверх - к рыскающей над бровкой рва смерти со «шмайсером».
Изя отдался силе брата, ибо только брату было по силам вырвать его у смерти.
Всего несколько минут назад, когда над Бабьим Яром хлестнул свинцовый ветер, брат Моня, подхватив его, скатился вниз по склону - туда... туда... где корчились, вслепую вгрызаясь пальцами в воздух, внезапно умирающие люди: чьи-то дедушки, чьи-то матери, чьи-то сестры и внуки.
Еще сутки назад - да что там сутки! - часы и минуты назад они были, все до единого, живы - здоровы и могли бы, дай волю, прожить целую жизнь, до 70-80, 90 и 120 лет...
Они густой толпой ползли по улицам, обреченные, подавленные, но не понимающие происходящего.
Ползли со своими, загнанными внутрь, переживаниями, надеждами, помыслами.
А над ними зависало фиолетовое полчище мух, в ожидании обильного пиршества.
Никто не мог до конца поверить, что участвует в похоронной процессии. Что медленное шествие к Бабьему Яру осуществляют на Их, подвластных Им ногах, живые покойники.
Мухи ощущали трупный запах, исходящий от толпы. И, обманываясь, набрасывались на все еще вполне живых людей. И, недоумевая, отмахивали, зудя, от их шальных рук - вверх, выше и выше, где застили небо фиолетовой пленкой.
Мухи знали, что переживут этих людей, как знали это и конвоиры, как знали это и тысячи киевлян, с состраданием, удивлением, ужасом или ненавистью взирающие на траурную процессию, втекающую в безразмерную братскую могилу.
Изя шел среди обреченных, держа за руку Володю Гальферина, и рыскал глазами по сторонам. Он искал спасения. Для себя, для брата, для друга. Для родителей. Но его взгляд натыкался на колючую проволоку, произрастающую вдоль тротуаров на месте чужих глаз. Проволоку? Произрастающую? Действительность это, наваждение?
Изя почувствовал толчок в спину. Он оглянулся на старшего брата. Моня кивком головы указал ему на человека, стоящего на тротуаре. И ему наконец-то открылись глаза, живые глаза их недавнего соседа, а в них он различил - так ему показалось - душевное смятение.
Изя Манов, незаметно для конвоира выпихнутый из толпы братом, больно ушибся о недавнего соседа, точно о гранитную глыбу. Он успел протолкнуть Володю Гальферина в щелку между людьми, а сам отлетел назад, в толпу, к брату, к смерти поближе. Гранитная глыба не сделала ни движения. Она не убила Изю, но и не спасла. Хата у глыбы стояла с краю - по ту сторону Бабьего Яра. А ведь вроде бы раньше была всего через улицу.
Годы спустя, когда Изя Манов вновь побывал в Киеве, хата соседа стояла, как и встарь, через улицу, в двадцати шагах от заселенного чужими людьми Изиного дома.
Годы спустя, когда Изя вновь побывал в Киеве, сосед потчевал его горилкой, варениками в сметане и помидорами со своего огорода. Он помянул Изиного папу, Изину мать. И, посмеиваясь, вспоминал за чаркой, как «перегавкивались» через улицу они, по-добрососедски, без всякой злобы, лишь бы скрасить обыденность, лишенную еще телевизора да и радиоприемника. Теперь у него «ящик» отменный, с большим экраном, и он коротает вечера без свар с соседями, ибо по нему краше - смерть, чем пропустить одну из серий «Семнадцати мгновений весны» с неуловимым Штирлецом - Тихоновым и милым-премилым Мюллером – «вот ведь толстячок какой, и не поверишь, что добродушная рожа эта - вражина-гестапо. Не доверили роль немецкому артисту, на своего Броневого понадеялись, а он им по-еврейски и выложился в любезностях-реверансах. Ну какой из еврея эс-эс? Побойтесь Бога, товарищи сочинители».
Изя, не испытывая внутреннего протеста, слушал бывшего соседа. Чокался с ним за накрытым скатеркой столом. И только, прощаясь, не подал руки. Он помнил отстраненной от реальности памятью, что гранитная глыба безрука.
Годы спустя, когда Изя вновь побывал в Киеве, он побывал в нем, городе детства и своего двойного рождения, первый и последний раз после Бабьего Яра.
«Мало вас били», - сказали ему в музее Шолом Алейхема экскурсанты - экскурсанты поневоле, очевидно, - из Днепропетровска.
«Везде одни евреи!» - разглядели его в темноте, у мощей какого-то святого, в лабиинтах Печорской лавры.
Изя своей шкурой прочувствовал, как «мало их били».
Изя своей шкурой прочувствовал, что это – «везде одни евреи».
Он был единственным евреем в штамповочном цехе завода № 85 ГВФ. И ему приходилось нередко выслушивать ядовитые анекдоты на еврейскую тему или «достоверные» рассказы о том, что евреи постоянно ищут легкой жизни, поэтому в цехах, у станков их не встретишь, они всегда норовят проскользнуть к кульману, в конструкторское бюро. (Конструкторское бюро, к слову, располагалось в административном здании, которое, из-за внешнего вида и цвета камня, либо по иным причинам, называлось Белым домом.)
На заводе № 85 ГВФ было несколько рабочих-евреев. И каждый являлся не просто рабочим, а своего рода живой легендой предприятия.
Таким был Изя Манов - штамповщик.
Таким был мой отец Арон Гаммер - жестянщик и музыкант, рационализатор, изобретатель и композитор.
Их портреты вывешивали на Доску Почету. И Доска Почета с семитским разрезом глаз вызывающе утверждала: “Везде одни евреи!”
Изя Манов считался воспитанником завода. Впервые он появился в штамповочном цехе еще совсем пацаном в годы войны, когда завод именовался 245-м авиационным и дислоцировался на Урале, в Оренбурге, тогда Чкалове.
Изя представлял из себя жалкий комочек нервов. И этот комочек работал по двенадцать часов в сутки. Работал до полного истощения мальчишеских сил. Лишь бы сделать побольше. Лишь бы побыстрей разбить фашистов. Лишь бы забыться настоящем, в изнурительном до одури труде, и уйти от прошлого...
Он старался уйти от прошлого. Сначала там, в Чкалове-Оренбурге. Потом и в Риге, куда осенью 1945-го был передислоцирован завод.
Но прошлое не уходило от него.
И по ночам он вновь и вновь продирался во сне сквозь гору трупов за глотком воздуха и натыкался, вырываясь к поверхности земли, на колючую проволоку враждебных взглядов.
Я познакомился с Изей в 1961-ом году, двадцать лет спустя после его повторного рождения.
Помню, работал рядом с ним у «гильотины». Она с лязгающим скрежетом разрезала металлические листы, толщиной с палец. А я под шумок рассказывал ему страшную историю Румбульского леса, где гитлеровцы проводили массовые расстрелы наших соплеменников. Время от времени евреи Риги, конфликтуя с властями, ездили туда, отдавая дань памяти жертвам Холокоста.
Папа тогда отозвал меня в сторону.
«Не трожь его! Не напоминай!», - сказал мне, мало смыслящему еще в человеческой психике, тем более травмированной войной.
Изя жил в своем настоящем, как в безвременьи.
Иногда представлялось: он заговаривается, невпопад бросает какие-то слова, обрывки фраз, непонятных, странных, или же наполненных скрытым философским подтекстом, недоступным мне, пятнадцатилетнему подростку.
- Смотри… Я иду, - вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, когда запускал многотонный пресс, произносил он. - И ты идешь. И он... Смотри… Мы все идем. А куда? Зачем? Мы ведь даже не знаем самих себя, а идем. Идем, не зная куда.
- Изя, - не поддаваясь его игре, говорил я с чувством некоторого превосходства, простительного по юности. - Никуда ты, Изя, не идешь. Посмотри на себя в зеркало и увидишь - ты стоишь у пресса, и ни на сантиметр с места не трогаешься.
Он изучал меня невидящими глазами и улыбался чему-то своему, потаенному.
- Я и стоя, в смысле, не двигаясь, - иду.
- Куда? - освоившись, подстраивался я под его игру. - Куда, стоя, в смысле, не
двигаясь, можно идти, Изя? К старости? Или - куда поведут?
- К старости. И – «куда поведут». Неизвестно - куда... Это и не важно... Главное, я иду, ты идешь. И все мы - всем миром идем. Все идем. И нам идти целую вечность. Ибо мы идем по жизни.
- Но Изя, сколько ни иди по жизни, все равно придешь к смерти.
- К своей смерти, милок. К своей смерти, - теплился Изя недосказанной мыслью. - Своя смерть в радость.
- А чужая? - настороженно спросил я.
- Чужой смерти нет, милок. Нет! Есть только своя. И она в радость, когда ты идешь к ней, но не она - к тебе. Я иду... Всего вам доброго, люди встречные...
6.
На причале, у выхода из ресторана-стекляшки, я оказался в довольно подпитом состоянии, и поначалу даже не заметил, что остался один. Где мои спутники? - задумался я. И вспомнил: когда в гардеробе облачался в утепленное пальто моего брата Бори и брал на плечо походную сумку с вещами, капитан Гальферин сказал… Что? Нечто вроде:
- Мы должны оформить портовую декларацию, судовые документы. Скоро вернемся.
Как долго двигалось это «скоро» трудно было понять. И не с чем было соразмерить.
Ни день, ни ночь. Электрический свет фонарей. Ритмичный плеск воды. Пологие волны медленно, словно при рапидной съемке, накатывались на каменную кладку. Захлестывали ее, ничем не огражденную от моря, и острыми язычками старательно тянулись к какому-то странному сооружению, фанерно-плакатного типа - о двух металлических ногах, с панорамой города по нижнему краю и белыми пятнами, изображающими северное сияние поверху. В центре, чуть ниже Ленинского профиля, скопированного с Юбилейной медали, либо с ее близняшки - монеты рублевого достоинства, шел крупногабаритный текст, своеобразная памятка для въедливых туристов.
«Пишем?» - мелькнуло в мозгу.
«Пишем! - откликнулось на хмельную нотку под Ливика Генделиста - На первую полосу!».
И я вытащил из кармана блокнотик и шариковую ручку.
Вот эта запись.
«Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Известный географ Фёдор Литке, побывавший в Кольском заливе летом 1822 года, писал, что его берега в южной части покрыты «березовыми и еловыми рощами». Город возник во время Первой мировой войны. Черное и Балтийское моря были заблокированы неприятелем. Чтобы иметь возможность бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте, Россия спешно строила железную дорогу от Петрозаводска на Мурман и одновременно порт на незамерзающем Кольском заливе.
Летом рабочие жили прямо под открытым небом, зимой, несмотря на заполярную стужу, в хлипких, насквозь продуваемых бараках. В пищу получали тухлую солонину и непропеченный хлеб из негодной муки. Страдали цингой. Скалистую землю долбили киркой и лопатой. «Мурманка», как называли Мурманскую железную дорогу, в буквальном смысле слова уложена на тела людей, погибших от непосильного труда, голода, холода и болезней.
Вот поэтому, когда здесь прозвучали ленинские слова – «мы не рабы!», весь народ в едином порыве избрал социалистический путь переустройства общества и пошел в революцию.
Да здравствует столетие со дня рождения великого провозвестника коммунизма и лидера мирового пролетариата товарища Владимира Ильича Ленина!»
Пхай-пхай! С каллиграфией, наконец, справился. Буковки туда - сюда, будто под градусом, но смотрятся-читаются. Пальцы закоченели. В мозгах сумбур. Накатилось тягостное ощущение внезапного сиротства. Торчишь, как гвоздь, на берегу коварного Кольского залива. Столкнуть тебя, как говорится, «за борт» – плевое дело. В особенности для тех, кому море по колено. После принятия на грудь трех стаканов коньяка, море и мне глубоким показаться не должно. Но я и по пьяной лавочке помнил предостережения старых разбойников пера из нашей газеты: в арктической купели долго не продержишься – пять минут до разрыва сердца. Сердцу же моему не разрыва, а любви хотелось.
- А я тебя еще не встретил! - вырвалось недочитанное в ресторане стихотворение.
- Кого? - вдруг послышалось сзади, из фойе.
Я обернулся. За распахнутой стекляшкой-дверью клубилась беличья шубка. Над ней беличья шапка внушительных размеров.
- Вы ко мне? - спросил я.
Шубка ответила:
- За вами.
- Кто послал?
- Капитан Гальферин. Он вас на пирсе ищет – не доищется. За нами буксир пришел. А вы – в отлучке.
- Не в отлучке, - я машинально воспротивился явной несуразице. - Я за дверью.
- Не за той дверью, - пояснила мне девчушка. - Вы не в ту дверь тиснулись.
- Все двери одинаковы, - пожал я плечами. - А как вас зовут?
- Янат.
- Таня!
- Почему Таня?
- Справа налево будет – Таня.
- Вы читаете справа налево?
- Подражаю Леонардо да Винчи, с его «зеркальным» письмом. Но только, когда вижу красивых девушек.
- Тех, кого еще не встретили?
- Именно. В их присутствии у меня глаза справа налево скашиваются.
- И ходите, куда глаза глядят – налево?
- Сначала я девушкам акростихи пишу.
- А это что такое?
- Вот встречу и объясню.
- Тогда поторапливайтесь.
- А где свиданка?
- На борту танкера «Юрмала». Свидемся – не заблудимся. Акростих с вас! Я вестовая и дневальная по камбузу.
- В подручных, выходит, у Ливика Генделиста?
- Пойдем, пойдем… Там разберемся…
Буксир-тихоход, забитый пассажирами, как городской автобус в часы пик, развозил моряков по судам, стоящим на рейде. На нем мы и задымили в запредельную даль, призывно подмигивающую звездочками навигационных огней.
«В тумане скрылась милая Одесса», а если не по песне, то портовой Мурманск. На горизонте проглядывались обводы танкера «Юрмала». Он был из породы «двадцатитысячников» - двадцать тысяч тонн водоизмещением, таких как «Алуксне», «Имант Судмалис», полученных Латвийским морским пароходством относительно недавно. Приветливым ориентиром светился фонарь на клотике. Желтыми глазницами выставлялись иллюминаторы. Мокрая веревочная лестница с деревянными плашками-перекладинами свисала за бортом, над которым приплясывал от озноба вахтенный в объемистом бушлате.
Мое внимание зациклилось на шторм-трапе. И мало-помалу озноб палубного матроса передался мне. «Интересно, какая тут глубина?» Впрочем, утопленнику без разницы: в Марианской впадине он захлебнулся, или в бассейне для оздоровительных процедур. «Свалишься в арктическую воду и каюк: пять минут до разрыва сердца», - опять вспомнились наставления излишне серьезных людей из нашей редакции. А как тут сердцу не разорваться, если и впрямь грозит ухнуть к рыбам на дно. Коварный сюрприз состоял в том, что буксир и не думал швартоваться к теплоходу. Он по-бычьи тыкал автомобильной покрышкой, установленной на носу для смягчения удара, в покатый борт теплохода, затем по инерции отваливал на несколько метров назад, чтобы без промедления опять двинуться на приступ. И так с постоянством клинического идиота. Взад-вперед! Взад-вперед!
Как я усмотрел по действиям попутчиков, прыгать на шторм-трап нужно было со звериной ловкостью и непременно в промежуток между тычком и отходом нашего мелкого суденышка.
Показать страх мне, морскому журналисту, было неприлично. Но я понимал, что выпитый коньяк ведет во мне свою подпольную и, надо полагать, сволочную работу. Моя боксерская реакция – единственная спасительница в столь конфузный момент – способна подвести. Но что делать? Вместо меня никто не прыгнет. Ни капитан Гальферин, ни первый помощник Харламов, ни стармех Огневецкий, ни Ливик Генделист. Пока я «соображал об этом на одного», они – первый, второй, третий – и принялись прыгать. Зрелище выразительное: реальность, а смотрится все, как на черно-белом экране в продуваемом сквозняком деревенском кинотеатре. Я бы добавил еще: в эпоху «Великого немого».
В серой полумгле вырастает металлический борт теплохода. Легкий тычок автомобильной покрышки, пружинистый отход кормой, вода вскипает пузырьками пены на расстоянии метра между буксиром и танкером. Теперь не зевать. Прыжок. Зацеп. Вертикальное перемещение рук – ног. Довольное: «Оки-доки!» И голос вахтенного: «Следующий!»
Следующим был я. Во мне три стакана коньяка. На мне теплое, но широковатое, следует признаться, пальто брата Бори, на плече сумка с вещами. Я и прыгнул. В нужный момент. По велению боксерской реакции. Она же меня и подвела, подлая. Подвела в тот, совсем уже «не нужный момент», когда я находился в воздухе, между носом буксира и бортом «Юрмалы». Должно быть, я оттолкнулся от буксира излишне сильно, и в следующую секунду моя сумка, подчиняясь инерции, соскользнула с плеча. «Там фотоаппарат!» - ахнуло в мозгах. И я инстинктивно прихватил свой багаж правой рукой. Дальше? Дальше я, все еще находясь в воздухе, осознал, что пропал. Свободной у меня оставалась только левая клешня, и если я не ухвачусь за веревочную лестницу, то питательный корм рыбам обеспечен. И надо же, ухватился. Причем так намертво, что подтянул свое шестидесятикилограммовое тело на одной левой руке, чего в обычной жизни и представить себе не мог, почувствовал опору под ногами, укрепился на перекладине, перекинул лямку сумки через голову и тяжко вскарабкался на судно.
Долго ли находился я в полете между буксиром и танкером? Две-три секунды? Но то, что рассказано, помню до мелочей. Странно, но психологически объяснимо. И как памятно! Хоть и не птица, а видел будто бы все с птичьего полета. Стоит закрыть глаза, и сейчас все это представляется чередой черно-белых кадров – «лихой кинчик!».
Как могло вместиться в мою бедную головушку такое количество мыслей и переживаний за мельчайший отрезок времени? Не мне судить. Говорят, что в момент клинической смерти перед человеком таким же незатейливым образом проходит кинохроника всей его жизни. Моя кинохроника содержит всего несколько кадров – прыжок над морем, с буксира на борт «Юрмалы». И снималась без всякой клинической смерти самой выверенной оптикой – глазом журналиста, который полагал себя в будущем и писателем.
7.
Проснулся я в каюте с ощущением невыполненного долга. Какого?
Акростих! – осенило.
По выверенной привычке, очнувшись после сна, я не выскочил из постели, поэтому и восстановил тут же во всех мелочах вчерашний день и встречу с прекрасной незнакомкой Янат - Таней, которой пообещал стихи.
Пообещал – сделай! Сделаешь – вручишь. Вручишь… Впрочем, не стану строить планы на будущее. Мы и сегодня еще не разобрались в ситуации. Поначалу, конечно, следует осмотреться в каюте. Две койки, две тумбочки, один иллюминатор на противоположной стене. Сбоку от него фотка, на ней какой-то чеканный профиль. Ни дать, ни взять, Ливик Генделист: вытянутый нос, заостренный подбородок. Но странно, в шлеме со шпилем. Дикие дивности с этим Генделистом. Он и не он вовсе. Артист! Ну, конечно, играл, наверное, в каком-нибудь самодеятельном театре латышского богатыря Лачплечиса. Вот и отчеканили на память.
Память… Моя так устроена, что если что-то ее зацепит, то не успокоюсь, пока не вспомню. Фотография и зацепила. Ливик на ней, не Ливик, но, определенно, где-то я видел эту героическую мордоворенцию. Но где? Точно, в редакции! А еще точнее, в фотолаборатории, у Гунара Ливена. Демонстрируя фотку, он говорил: «Переснял в этнографическом музее. По просьбе одного моряка с «Юрмалы». Парень утверждал, что на чеканке не кто-нибудь, а прямой его предок Лив – Отважное Сердце. По прозвищу «Лев». По преданию, он правил прибрежными территориями Рижского залива в тринадцатом веке».
Правил ли могучий Лив – Отважное Сердце прибрежными территориями, либо всего лишь рыболовецкой артелью, не чуравшейся и пиратского промысла, это одному Богу известно. Но чего от латвийского помора не отнимешь, внешне он здорово смахивает на Ливика Генделиста, словно одна мама их родила. Правда, у моего приятеля Ливика, если порыться в его семейных тайнах, укрываемых от отдела кадров, мама - чистых еврейских кровей, а вот у его предка вряд ли. Хотя кто их знает, этих доисторических мам. Самая доисторическая – Ева. А ее, хотя она вообще по национальности никем не значилась, почему-то считают еврейкой. Но вернемся из райского сада на песчаные дюны янтарного края, к древнему воителю. От кого ему досталась такая кликуха «Лев»? Может быть, он получил ее не в честь царя зверей, чуждого флоре Рижского залива, а подлинно во славу собственного отважного сердца? Секретов не держим: «сердце» на иврите созвучно со словом «лев» на русском языке. Вот и гадай, кто дал герою давнего эпоса прозвище: латыш, русский, немец или еврей? По всему видать, без евреев здесь не обошлось. А как они добрались до Юрмалы в ту глухую пору, когда еще электричка из Риги на взморье не ходила, это не моего ума дело. И без того, столько вокруг несуразностей, что диву даешься. Зачем мне лишняя путаница в голове? Лучше стишок для девушки сочиню, просто так, для освежения мозгов да взаимного удовольствия. Где мои рабочие инструменты? Вот мои рабочие инструменты! Блокнотик кладем на тумбочку, раскрываем на чистой странице и давай выстраивать именные буковки сверху вниз.
Я
Н
А
Т
Буковки выстроил, архитектор-затейник. Пора и вдохновением обрасти, рвануть по строчкам, как по кочкам. Вдохновение - верное средство против похмелья. Проверено: мин нет! Итак? Пишем? Пишем!
Я… Я встретил вас и все былое…
Э, нет, так не годится.
Зайдем с другой буквы. Н… Никогда я не был на Босфоре…
Черт! Кто это втемяшил мне в башку, что вдохновение – верное средство против похмелья?
Я заглянул в тумбочку, стоящую у койки. Обнаружил на верхней полке бутылочку из-под йода, грамм на пятьдесят, ярлыком к ней была прицеплена бумажка с надписью: «Лекарственная настойка. Перед употреблением не взбалтывать. Градусов не прибавит». Отодрал резиновую пробочку, принюхался. Не йод, разумеется, оставил мне Ливик Генделист. А что? Это придержим в секрете, так как на судне после поднятия якоря – «сухой закон».
Якорь подняли – это чувствовалось по усиливающейся качке и рокоту двигателей.
Якорь подняли - отныне на борту пить нельзя.
Нельзя, так нельзя! Но, честно признаться, хочется. К тому же вдохновению «сухой закон» не писан. Никак не раскачается оно, поддатое со вчерашнего вечера вдохновение, пока температурку не поднимет до сорока. Глоток, второй. Температурка и подскочила. Итак? Пишем? Пишем!
Я…
Я в поздний час вас встретил на причале.
Н…
Ночь. Ресторан. Фонарь дымит свечой.
А…
Ассолью вас хотел назвать вначале,
Т…
Таинственною Гриновской мечтой.
Ну, и хотел. А что дальше? Где логическое завершение? Акростих есть, а стихотворения не видно.
Дальше? А что, если дальше дадим акростих на ее оборотное имя? Будет, действительно, оригинально: Янат – Таня.
Т
А
Н
Я
Т… Теперь я знаю, вы звались Татьяной…
Нет! Попытка вторая.
Т…
Теперь мне ведомо, Янат вы и Татьяна.
А…
Астральной чайкою парите под луной.
Н…
Навечно ваш! В каких бы ни был странах,
Я…
Я с вами мысленно, вы мысленно со мной.
8.
Море катило бутылочного отлива волну, кромка гребней была густо усеяна белыми брызгами, и это создавало иллюзию снежной пороши.
По своеобразному коридору, узкому деревянному настилу с алюминиевыми трубками-поручнями, проложенному метрах в двух над палубой, я прошел на камбуз к Ливику Генделисту.
Металлическая дверь не заперта. За ней виднелась массивная плита, узкий кухонный стол, покрытый пластиком, с бордовой механической мясорубкой, размером с бочонок. В стороне от двери сидела на табуретке моя ненаглядная, она же Янат-Таня, и чистила картошку, ловко снимая кожуру остро заточенным ножиком. Перед ней два ведра, в одно она бросала округлые плоды своего труда, а в другое… В другое ее рвало... Ну, и морячка! Довольный тем, что она меня не заметила, повернул назад и побрел в курилку. Может быть, там пропадает Ливик Генделист, пока его напарница готовит полуфабрикаты. Не иначе, как пошел подымить. На танкере разрешается курить только в специально отведенных помещениях. Рядовому составу в курилке, а штурманам и механикам в кают-компании. В кают-компании баловаться сигаретой мне было не интересно, ничего нового не услышу. Не то, что в курилке. Здесь собираются местные балагуры, любители потрепаться, позубоскалить, причесать кое-кому гривку. При виде журналиста, в отличие от офицерского состава, не обремененного партийным билетом и семейным положением, еще более расходятся, полагая, что береговому ферту, мало смыслящему в морском деле, легко навешать лапшу на уши.
Пересменка вахт еще не наступила. В курилке, как я и полагал, оказался Ливик Генделист. В гордом одиночестве он дымил сигаретой, листал местную газету с романтическим названием «Заполярная звезда».
- Оки-доки! - сказал мне. - Входи! Гостем будешь. Смотри, что брешут.
Через его плечо я прочел заголовок заметки.
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ НАШЕСТВИЕ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
- Ого! Где это?
- Там! - махнул Ливик рукой. - За что боролись, на то и напоролись. Россия – родина слонов, а Амдерма – белых медведей.
- Наша - куда идем?
- Туда и идем. Первая остановка – Североморск, вторая – Амдерма. Читай – знакомься. Экзотика – первый класс! А я побежал, мне картошку ставить.
- С блевантином, - хмыкнул я.
- Чего так?
- Да Янат твоя – того… Был там, видел! Выворачивает ее всю наизнанку!
- Не то видел.
- А что не углядел?
- Ты бы ей еще в животик рентгеном посмотрел.
- Да ну?
- Гну! Там мой наследник, может быть, лопатится. А ты…
- Молчу!
- Молчи и, главное, помалкивай. Нам ведь, если поженимся, раз – цвай – драй, на одном судне не ходить. Доперло?
- Докатилось.
- Оки-доки!
Вроде бы и ответил по существу. Но куда теперь девать изделие моего поэтического вдохновения? Выбросить? Жалко. Держать до лучших времен в кармане? Глупо. Лучшие времена по отношению к девушке Янат-Тане теперь уже не настанут. А вот приятный подарочек для сердца – почему бы не сделать. Я протянул Ливику вырванный из блокнота листок.
- Прочти и передай товарищу.
- Что это? Сердечные тайны?
- Тайны этой жизни тебе раскроются в следующей, - назидательно сказал я.
Ливик прочел. Хмыкнул.
- Рифма у тебя хромает. Но мой товарищ женского пола, с согласия экипажа, тебя в щечку поцелует. А пока позволь приложиться и мне.
Ливик чмокнул губами, будто намеривался облобызать меня. Но я отстранился, приняв боксерскую стойку.
- Что ж, - притворно вздохнул Ливик Генделист. - Я не Олег Григорьев, чтобы в боксе с тобой соревноваться. А вот, что касаемо стихов.
- Знаю, слышал… Уже сравнялся с Пушкиным. По росту. Метр, пятьдесят восемь.
- По росту, - хохотнув, согласился корешок в клешах. - Ты вот, хоть и перерос Александра Сергеевича на целых пять сантиметров, тоже не Пушкин.
- Скорее Байрон! В Лондоне он слыл еще и отменным боксером.
- Хромой?
- Хромой. Но заядлый драчун. Без этого по тем временам ни один джентельмен не обходился.
- Ну, конечно. Поэтому ты и хромаешь на рифму, - продолжал хохмить Ливик Генделист.
- Почему? Мы и к прозе питаем почтение. С младых ногтей. И по сейчас помню наши детские, литературные, я бы сказал сочинения на вольную тему. Из жизни замечательных людей.
- Оки-доки! Из жизни замечательных – это годится.
- Вот послушай про Пушкина, что с тебя ростом. - И, не задумываясь, я автоматически покатил по словам, как это бывает при пересказе анекдотов: - Пушкин, Лермонтов и дворовая девчонка Буся играли в прятки. Пушкин спрятался со своей подругой под столом и кричит Лермонтову: «Ищи!». Лермонтов бродит по комнате, ищет-ищет, но не может найти. Наконец взмолился: «Пушкин! Пушкин! Где ты?» А Пушкин в ответ: «Я и Буся под столом!».
- Очень смешно, - хмыкнул Ливик Генделист. - Но это правда литературы. А вот правда жизни. - Он выдрал из местной газеты страницу с заметкой об Амдерме и белых медведях и передал мне: - Пригодится для репортажа.
И вышел из курилки.
Я сел на его место, распечатал пачку рижской «Элиты», принялся читать.
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ НАШЕСТВИЕ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
Жители одного из отдаленных поселков Ненецкого автономного округа столкнулись с нашествием белых медведей.
Белые медведи появились в окрестностях поселка Амдерма около двух недель назад. По словам местных жителей, рядом с Амдермой бродят от пяти до десяти особей разного возраста, живущих отдельными группами. Одно из животных ранено. Пока медведи не проявляют агрессии. Однако ранее случаи нападения на военнослужащих местной военной части были.
Что делать с незваными гостями, власти поселка пока не знают. Медведи занесены в Красную книгу, а значит убивать их нельзя. Прежде чем усыпить, отловить и транспортировать этих зверей «домой», необходимо получить официальное разрешение территориального управления Росприроднадзора, что администрация Заполярного района НАО и сделала, отправив письмо по нужному адресу.
В ожидании ответа жители Амдермы нашли достаточно безобидный выход из ситуации: когда медведи приближаются к поселку, мужчины на машинах отгоняют их подальше от человеческого жилья.
При этом следует уточнить: медицинскую помощь людям, если на них нападут и укусят медведи, в поселке может оказать только местная амбулатория, стационара в Амдерме нет, хотя с просьбой об его создании жители поселка обращались к заместителю начальнику Заполярного Бассейнового медуправления Михаилу Израйлевичу Рапопорту.
- Такие дела, - пробормотал я, спрятал заметку в портмоне и закурил сигарету. - Поэт горбат, стихи его горбаты. Кто виноват? Евреи виноваты.
Портить легкие табачным дымом было мало желания. Но это – хочешь, не хочешь – необходимо по роли. Искусство, как говорится, требует жертв.
Признаться по чести, я был еще абсолютно некурящим молодым человеком, с приличной дыхалкой, в сравнительно недавнем прошлом - чемпион Латвии и Прибалтики по боксу. Но, предполагая, что ради морской травли непременно засяду в курилке чуть ли не на весь арктический рейс, купил в Риге блок латвийских сигарет «Элита». Весь и пустил на воздух. И как бы то ни было, хоть и приучился коптить легкие, об этом потом не жалел. Набрал целый ворох забавных историй.
Сегодня впервые их публикую. Спешите видеть: живые слепки 1970 года.
XXI век. Ассоциация пятая:
НАД ЧЕМ СМЕЮТСЯ МОРЯКИ
Нейлоновая шевелюра
Говорят, волосы выпадают от излишнего ума. А у боцмана Треплова ни ума, ни волос. Раньше волосы у него были. Даже не обыкновенные, а нейлоновые. Вот такую, необычную, стало быть, для наших краев шевелюру приобрел он в одном из иностранных портов. То ли во Франции, то ли в Швеции. Доподлинно это никому не дано знать.
Зато все прекрасно помнят, как предстал боцман Треплов перед подопечными ему матросами во всем своем волосатом великолепии. Разве не могли его подопечные не отметить столь великое преображение командира палубной команды?
Только пришли в родной порт, как сразу же стали «обмывать» зарубежную шевелюру. «Обмыли» одну прядь, другую, а на третью спиртного не хватило. Но какой моряк растеряется в такой ситуации?
Свистать всех наверх!
Свистнули. Еще раз свистнули. И сообразили разом на всех. Вмиг снарядили своего предводителя – боцмана Треплова – в ближайший магазин, на поиски дополнительной выпивки. Спустился он с трапа, выскочил за пределы порта. Подался по адресу. В один магазин – закрыт! Во второй магазин – закрыт! Посмотрел на небо: вечереет. Посмотрел по сторонам: завмаги двери запирают, торопятся к телевизору – смотреть на Аркадия Райкина и его театр миниатюр.
Что делать? Не сдаваться же, право! Разве положено моряку теряться в такую тревожную минуту, когда душа горит? Не положено! Поставит он нос по ветру и рванет в дежурную аптеку, попахивающую не обязательно нашатырным спиртом.
Боцман Треплов так и поступил.
Появляется он перед милой медицинской работницей, что в белом халатике и чепце смотрится как кинодива.
Спрашивает-интересуется:
- Тройной одеколон есть в наличии?
- Есть, не извольте беспокоиться, товарищ морячок дальнего плавания. Завернуть бутылочку?
- Завернуть! - воскликнул «морской волк». - Но не одну, а пару дюжин. Гулять, так гулять!
- Пить его будете? - ужаснулась продавщица с медицинским образованием. - Это же слизистой оболочке и желудку противопоказано. Язву наживете. Отравитесь!
- Не отравимся, - заверил девушку боцман Треплов. - Чтоб мне якорей не вирать!
- Я про якоря ничего не знаю. Но если брать потом вас на анализ мочи, то белковые антитела в ней будут показывать резко отрицательную синусоиду во вред вашему здоровью.
- Зато тело будет пахнуть по-человечески! - отпарировал боцман Треплов. - А мне ничто человеческое не чуждо! Заверните пару дюжин, и наше вам «адью» с кисточкой!
Открутил пробочку. Выпил содержимое. И пошел на улицу, на прощанье сказав:
- Пора и ребятам поблагоухать.
Но не удалось боцману Треплову претворить в жизнь столь благородное намерение. Зашатало его под тяжестью пакета, повело по тротуару зигзагом – никак самостоятельно не добраться до усыхающих от жажды друзей-приятелей. Довезла его машина. Синенькая, с красной каемочкой – скорая милицейская. Правда, сколько он ни указывал ей правильную дорогу, маршрут избрала другой: не к причалу, а в медвытрезвитель.
А там пихнули боцмана под холодный душ и постригли наголо. И сколько он ни доказывал медбрательникам, что волосы его нейлоновые, заграничные, не прониклись - не поверили. Решили: белая горячка. Где это видано, чтобы у живого человека росли мертвые волосы? Думали, что из нейлона делают только рубашки и галстуки.
Экзамен
Пароход «Котлас» стоял в доке. Шел капитальный ремонт. На палубу поднялся рослый парень в свитере, плотно облегающем его могучий торс.
- Силен! - приветливо улыбнулся вахтенный штурман. - К нам?
- По направлению. Матросом.
- Откуда будешь?
- На заводе работал. Сейчас вот в море выпросился.
- О, кей! - полиглот-штурман выразился по-английски, но с русским акцентом. - Первый раз в море, что ли?
- Первый. Докладывал ведь. Я с завода. Но в секции юных любителей моря состоял. Называется «Алые паруса».
- Что ж, хорошее дело. Пора тебе оморячиваться. Бери ножовку. Ступай на корму, к гребному винту. Этот винт, да будет тебе известно, насажен на стержень. По-морскому, на вал. А вал сильно выступает за лопастями, в задней, так сказать, части. Надо отрезать его, вровень с винтом. Иначе в рейсе он будет тормозить ход судна. Ясно?
- Чего ясней! Обрежем! – парень взял ножовку и удалился на выполнение производственного задания.
Вахтенный штурман жизнерадостно поплевывал за борт в ожидании сменщика. Но дождался не его, а возвращения новичка-салажонка. Весь из себя взмыленный, он предстал перед командиром и с чувством исполненного долга доложил на доступном пониманию английском:
- О, кей.
- Что «о,кей»?
- Вал не будет больше тормозить ход судна.
- Что? - у штурмана глаза полезли из орбит.
- Спилил я его, к черту, как и было велено.
Штурман ухватился за поручни, чтобы не упасть за борт.
- Ты!.. Ты!.. - и побежал к стармеху, «деду» на морском наречии.
- Так и так, - стал докладывать. - Опростоволосились, не знаю, как и быть.
Еще что-то говорил в свое оправдание, но в ответ слышалось лишь одно:
- Он пилил ветку, на которой сидел ты. Теперь будешь сидеть уже не на ветке.
Когда же «морские волки» прошли на корму и спустились к гребному винту, их ждало новое удивление. Вал не был спилен. Торчал себе и торчал, как и положено. Рядом валялась ножовка.
- Чего так? - растерялся вахтенный штурман, глядя на виновника неприятностей.
Тот широко улыбнулся:
- Кстати о розыгрышах. Я же говорил, что работал на заводе. Но не уточнил, что на Рижском судоремонтном. Судно я знаю от киля до клотика.
Техминимум
- Следующий! – сказал председатель комиссии Латвийского морского пароходства капитан-наставник Тукумс и пронизывающим взглядом окинул робко вошедшего в просторный кабинет моряка.
- Что? Волнуетесь, молодой человек? Вопросов побаиваетесь?
- Побаиваюсь, - согласился моряк, и уточнил: не вопросов, а своих ответов.
- Очень остроумно, молодой человек. Но у нас здесь не КВН. Давайте приступим. Вы готовы?
- Так точно!
- Итак… Что вы будете делать, если разразится девятибальный шторм?
- Якорь отдам.
- А при десятибальном?
- Второй якорь.
- А при двенадцатибальном?
- Третий.
- Пятнадцатибальном?
- Четвертый.
- Семнадцатибальном?
- Пятый.
- Постойте-постойте, молодой человек! А где вы возьмете на судне столько якорей?
- Там же, где вы взяли все эти «бальные» штормы.
Куриная слепота
На газовоз «Краслава» был назначен новый «мастер» - капитан дальнего плавания Дадзис.
А новая метла, как известно, по-новому метет.
Явился капитан Дадзис на судно. Начал мести. Мел-мел, и добился того, что экипаж стал работать, как хорошо отлаженный двигатель. И все бы отлично, да – вот беда! - вечного двигателя не бывает.
Как-то на рейде славного черномомрского города, который одновременно и мама, то бишь на одесском рейде капитан Дадзис скомандовал:
- Отдать правый якорь!
- Есть отдать левый якорь! - откликнулся боцман Треплов.
- Прошу не путать! Правый, - поправил его капитан Дадзис.
- Левый? - переспросил боцман, будто ослышался.
- Вы что? Глухой? - вспылил капитан Дадзис. - Сказано – правый, значит, и отдавайте – правый!
- Может, все-таки лучше левый? Мы всегда при заходе в Одессу отдаем левый якорь. Так повелось еще при бывшем капитане Драугсе.
Злость взяла капитана Дадзиса.
- Бывшие Драугсы сегодня на мостике не стоят. Слушай мой приказ, боцман! Никаких «левых» дел! Отдать правый якорь!
- Несушек жалко! - взмолился боцман Треплов.
Капитан Дадзис стукнул кулаком.
- Я тебе сейчас понесусь! Исполнять, недодел!
Со слезами на глазах боцман Треплов отпустил ленточный стопор. Смычки якорной цепи пронзительно заскрипели, унося металлическую махину на дно.
Раздалось пронзительное кудахтанье, и в небо взлетели куриные перья.
- Что там творится такое? - закричал, обезумев от ярости, капитан Дадзис.
- Я же говорил, несушек жалко, - пробормотал боцман Треплов.
- Каких несушек?
- Тех, что жили в нашем цепном ящике, над правым якорем. Бывший наш капитан Драугс любил поутру употреблять сырые яйца, чтобы командирский голос не садился от крика. Вот и возили с собой кур.
Капитан Дадзис побледнел.
Он тоже любил яйца, правда, в виде омлета.
9.
В ходовой рубке у карты на длинном - от стены до стены - столе «колдовал циркулем», вахтенный штурман, мой старинный приятель с подрифмованным под «речную» фамилию имечком Стасик Карасик.
«Морские» зубоскалы, если использовать фразеологию журнала «Крокодил», не могли пройти мимо такого несоответствия: мелкая пресноводная рыбешка на борту просоленного океанского лайнера.
Впрочем, неотлипную приставку к фамилии - и вовсе не в виде дразнилки – Стас Карасик получил еще в далеком 1962 году, на первом курсе мореходки, сразу же как записался в секцию бокса Рижского СКА, и попал на выучку ко мне, тогда семнадцатилетнему чемпиону Латвии. Сколько я не мытарил его в спаррингах, ему не давалась ударная «двойка» левой-правой. Он запаздывал со вторым ударом ровно на ту долю секунды, потерю которой осознаешь уже сидя на полу. И тогда я придумал, чтобы ребята, стоящие вокруг ринга, скандировали во время боя – «Ста-сик! Ста-сик!» Получалось: «Ста!» - удар, «сик!» - второй. Пацан прибавил в скорости и силе. А потом, по той же технологии, я разложил его фамилию на три слога, и научил, отступив на шаг после раскатистого «Ста-сик!», то бишь «двойки» левой-правой, бросаться в повторную, совсем неожиданную для противника атаку. Под клич «Ка-ра-сик!» он и шел на добивание. Надо признаться, такая забавная метода привела моего выученика к званию чемпиона Рижского мореходного училища и - чуть позже – на высшую ступеньку пьедестала почета первенства Риги. Он выходил на ринг, после удара гонга раздавалось: «Ста-сик Ка-ра-сик! Ста-сик Ка-ра-сик!» Минутное оживление среди болельщиков на трибунах. И… Все заканчивалось в первом раунде. С явным преимуществом. Из боя в бой. Мог бы и дальше совершенствоваться, но морская практика гробила все накопления спортивного зала. Так что обижаться на «Стасик Карасик» морскому штурману не было никакого резона, хотя в физическом отношении он перерос уменьшительное, оно же ласкательное прозвище вдвое: размах плеч полтора метра, вес за восемьдесят. Да и повыше меня на голову плюс шея. Но - что интересно - в боксерах постоянно живет застарелая память о бойцовских качествах своего соперника, в особенности, если он заодно и «играющий» тренер. Некогда, уверовав в убойную мощь моих кулаков, Стасик Карасик не изменял этой вере. Он совершенно серьезно полагал, что, выпади нам причина стать спина к спине, мы разгромим любое неприятельское войско. Я так не думал, но и не отлучал старого приятеля от его веры. Стасик иногда, во здравье этой веры, мог учудить великое непотребство, что и сделал, прослышав, что я нахожусь на борту танкера «Юрмала». Непотребство выражалось в том, что, будучи по комсомольской «нагрузке» физоргом экипажа, он отправил в спорткомитет Амдермы радиограмму с предложением провести товарищескую встречу по боксу, приуроченную к столетию со дня рождения Ленина. Отказаться от предложения, в котором фигурировало пусть даже для «галочки» имя вождя мировой революции, было невозможно. А набрать городскую команду, если бокс культивировался в крае вечной мерзлоты, было несложно. И ответная радиограмма не заставила себя ждать. «Вызов на боксерский матч в честь столетия со дня рождения В.И.Ленина принят!» - было сказано в ней.
Эту радиограмму и показал мне Стасик Карасик, когда я вошел в ходовую рубку.
- Не понял, - сказал я, разглядывая депешу.
Стасик взял со штурманского стола бинокль и протянул его мне.
- На, приглядись. Цейсовские стекла помогут.
Я шутливо посмотрел на радиограмму через бинокль.
- Стасик! Этот боксерский вызов – в мой огород?
- В наш. Честь экипажа в опасности. Надо драться, и чтоб в каждом кулаке по нокауту, как ты говорил.
- Стасик, нокаут пусть остается при тебе. Я не в форме!
- А я?
- Как же ты намерен выступать?
- На старом опыте.
- Мне прикажешь кричать: «Ста-сик Ка-ра-сик»?
- А экипаж на что?
- Но я не шнуровал перчатки… не припомню, с каких пор.
- Тебе поможет вся наша сборная.
- А из кого она состоит? Я да ты, да мы вдвоем?
- Почему? Кое-что наскреб.
- Кто же это? Я ведь никого из вашего экипажа на ринге не видел.
- А Ливик Генделист?
- Ливик? - удивился я. - Откуда?
- От верблюда! Он говорил: у него был первый юношеский разряд.
- Брось! У него разряд по всем видам творчества и краснобайства! На ринге - юношеский, а под одеялом - взрослый. Но все это от излишнего энтузиазма. Прознает, что формируется бригада для полета на Марс, тут же заявит: он пилот высшего космического разряда.
- Подожди, подожди! А как же спарринги с тобой? По пятницам, для поддержания спортивной формы?
- Это он тебе говорил?
- Ну, говорил…
- А язык у него – что?
- Что?
- Помело, Стасик. Пару раз – да, я таскал его на тренировки, но у него ножки, как у козы – рожки, не держат нагрузки. И соревновательных боев – ни одного. А без боевого опыта - нет боксера. Сам знаешь,
- Зато энтузиазм - выше головы!
- При его росте… Ладно, проверим этот энтузиазм в деле, если его не съест предстартовая лихорадка.
- Вот и хорошо. Он у нас пойдет в «мухе». Ты в легком весе.
- Глаз – алмаз! Сразу определил, сколько я прибавил.
- А то!
- Ты в «тяже»?
- Других не держим. В полутяже можно было бы выставить нашего «чифа».
- Старпома? Того, что из Сибири?
- Ага! Алексея Рогычаева! В годы курсантские он тоже шнуровал перчатки. Но…
- Что?
- Неудобно к нему обращаться.
- Старший по званию?
- И это… Тридцать два года человеку стукнуло. А тут – бокс…
- Ладно, оставь это мне.
- Договорились, «чифа» бери на себя…
- Все?
- Годи, стрелец-молодец! Только вышли в финал. А в финале – наш «классик». Семьдесят пять кг. Вес – один к одному: второй средний. По манере - Лагутин. Но с маленьким преимуществом.
- Не загибай, Карасик!
- Левша!
- И кто же это? Почему не знаю? - сыронизировал я под Чапаева из любимого некогда фильма.
- Наш док Эрих Эриксон. Правда, он родом из Ленинграда, потому и не знаешь, - ответил вполне серьезно мой бывший спарринг-партнер.
Но я еще не освободился от юморного настроения:
- Из потомков Эриха Рыжего, что захватил Гренландию?
- Викинг он скорей по фамилии, швед славянских кровей. Ну, и на ринге…
- Не припомню, чтобы у нас врачи занимались боксом.
- Эрих к Риге не имеет никакого отношения. Он из Ленинградского медицинского. По юношам - призер Союза, а в студенческие времена был чемпионом спартакиады «Буревестника». Кажется, в шестьдесят пятом. Точно не припомню.
-У меня тоже был тогда шанс.
- Что? Ты ведь не из «Буревестника».
- Да нет, ничего. Это к слову. Дело в том, что я, и многие наши ребята – боксеры, борцы, гимнасты - должны были участвовать в этой спартакиаде, - разоткровеничался я. - Мы тогда заранее, в 1964-ом, за год до соревнований, поступили в Рижский политехнический институт, на факультет ПГС – промышленное гражданское строительство, чтобы нас своевременно перевели в спортобщество «Буревестник». Это была история!
Выглядела это история так: благодаря стараниям Молчановой, заведующей спорткафедрой, факультет ПГС превратился в своеобразный филиал Рижского института физкультуры. Инженерный диплом казался нашим мастерам спорта более привлекательным, чем корочки учителя физкультуры. Так что в градостроители двинулись чуть ли не все лучшие спортсмены Латвии, в том числе легендарные баскетболистки из «ТТТ» Скайдрите Смилдзиня и, если не ошибаюсь, Ульяна Семенова.
Нетрудно представить, какой силы сборную Рижский политехнический готовил к спартакиаде «Буревестника». Равной ей, по сути, не было во всем Советском Союзе. Разгромили бы всех! Так, во всяком случае, нам представлялось. Но что? В 1964 году министр обороны маршал Малиновский издал указ: студентов мужского племени - всех поголовно, кто не в медицинских или авиационных вузах - обрить и отправить в армию, на защиту родных рубежей от условного, но коварного врага. И вместо подъема на пьедестал почета, всем нашим некоронованным королям спартакиады «Буревестника» выпало восхождение на другие высотки. И мы пыхтели: «сопки ваши стали наши», когда потенциальные противники делили между собой золотые медали спартакиады.
- Се-ла-ви, такова жизнь, как говорят французы, - отмахнулся от моей истории Стасик Карасик. - Я ведь - помнишь? - тоже намеривался стать чемпионом Морского флота СССР. Но эти бесы из спорткомитета так и не провели чемпионат, хотя обещали, обещали… - и опять согнулся над картой, что-то отмеряя циркулем.
Штурвальный доложил:
- Впереди по курсу эсминец «Стремительный».
- Пусть идет своим курсом, - пробурчал Стасик Карасик, ориентируясь на мое ухо. - Мы его не тронем.
Я поднял бинокль. Серые воды, серый корабль. Серые зенитные установки. Вдоль бортов серые торпедные аппараты. Буруны у форштевня, будто пена от шампанского. Единственное живое пятно во всем разливном море серятины и тревожной, пахнущей ожиданием войны, скукоты.
Казалось бы, поравняется военный корабль с нами, развернет убойную артиллерию, да как шарахнет крупнокалиберной сволочью по ходовому мостику. Впрочем, зенитные установки таки разворачиваются, но не встреч нашему курсу, а назад. И… Что это? Рассыпали приглушенный рокот очередей, выцеливая…
Господи! Идут учения, что ли? Или это и впрямь летающие тарелки? Тарелки? В такой близости от Североморска, засекреченной военно-морской базы? Ни хрена себе!
Три зеленовато-жемчужных диска, с перламутровым переливом на ребрах, метров десяти в диаметре, вынырнули из-под воды и закружили по часовой стрелке над кормой эсминца. Секунду кружили, вторую, третью, а, может, и целую вечность – время куда-то утекло, словно его и не было в наличии. Я потряс головой, чтобы смахнуть оторопь, и едва успел ухватить глазом, как странные диски, взяв с места в карьер, растворились в воздухе, либо скакнули сразу, в один прием, за горизонт, по направлению к Амдерме.
Я потянул Стасика за рукав форменки к иллюминатору.
- Ты видел?
Он приложил палец ко рту.
- И ты ничего не видел.
- Как так? Только что были…
- Были да сплыли.
- Чьи они?
- А кто их знает? Мы их не видели, ничего про них не знаем. И в вахтенный журнал ничего про них не записываем.
- Но это же НЛО!
- Они тебе сами о том доложили? А если это наше новое секретное оружие? Визу отберут, и в психушку – за разглашение.
- Но я же сам видел, Стасик!
- Тут навидаешься. Братья по разуму или еще кто… Каждый раз на подходе к Североморску такой чертовщиной накормят, что… Ладно, не буду. Виза дороже. У нас негласное указание: ничего не видеть и ничего не разглашать.
- Но ведь это сенсация!
- Только для коммунальной кухни. Но не у нас на судне. Здесь на эту тему даже в кают-компании не говорят.
- А помнишь? Пару лет назад в газете «Советская молодежь» появилась заметки очевидцев – «летающие тарелки над Сигулдой…»
- Помню, и ты там «прописался». А чем это кончилось?
- Редактора сняли.
- То-то и оно!
- Но ведь я видел! Тогда! В Сигулде!
- Ну, и молчал бы, умник! А если невмоготу, то исповедуйся об этом по другому адресу – перед Ливиком Генделистом. Он сам из древних ливов, а они, по его версии, от космических пришельцев. Общий язык на общую тему вам обеспечен. А мне… Мне – прокладывать курс. И помни, ничего не видел, ничего не знаю. Моя хата с краю. Здоровее будешь.
XXI век. Ассоциация шестая:
«СТАННОСТИ» В НЕБЕ ЛАТВИИ
Начнем с газетных заметок.
«Коммунист», Лиепая.
1 декабря 1967 года.
А что если это марсиане?
Некоторые лиепайчане оказались свидетелями загадочной картины. В небе передвигалось светящееся тело, которое нельзя было спутать с облаком, самолетом или спутником. По свидетельству очевидцев (одна из которых – работница гидрометеослужбы), это была полусфера больших размеров, низко висевшая над землей, которая затем, всколыхнувшись, быстро удалилась за горизонт, унося с собой огненный свет, на который было больно смотреть незащищенными глазами.
Я. Калей
«Советская Латвия», Рига.
10 декабря 1967 года
Летающие феномены
Последний сезон повышенной активности НЛО начался летом 1965 года, когда над некоторыми странами Европы и Америки, а также в Австралии были замечены таинственные фантомы. Много раз «летающие тарелки» появлялись и над территорией Советского Союза. Совсем недавно необычное явление наблюдали в Лиепае. Сообщения очевидцев наталкивают на мысль, что это не мираж, что в данном случае речь идет о настоящей «летающей тарелке».
Что касается гипотезы, рассматривающей НЛО как посланцев других космических цивилизаций, то пока этот вопрос остается под большим сомнением, хотя и нет веских причин для того, чтобы категорически отвергнуть такую версию. Несомненно одно – наука столкнулась с совершенно неизвестным доселе явлением. Необходимы глубокие и тщательные исследования, изучение свойств таинственных летающих объектов.
Р. Витолниек
Сигулда приветствует инопланетян
Сигулду называют латвийской Швейцарией. Расположена она в гористой местности, на расстоянии 53 километров от Риги, по обе стороны сноровистой реки Гауи.
Первые поселения возникли здесь задолго до нашего времени. В устных преданиях сказано, что их основали «породители ливов - звездные люди». Кто они такие, никто не знает и, разумеется, не помнит. Но в конце шестидесятых годов, после появления летающих тарелок над Сигулдой, потомственные старожилы стали «вспоминать» о том, что им рассказывали деды. А деды им поведали вот такую занятную историю: здесь некогда приземлились космические корабли с голубой звезды Сириус. Космические пришельцы, соскучившись по телесным ласкам, стали ходить к местным плодовитым женщинам. А потом улетели в дальний космос, обещав на обратном пути вновь приземлиться в Сигулде и забрать с собой народившихся внуков-правнуков. В точности дату их повторной посадки в Сигулде никто не уточнял, в особенности, если говорил на эту тему с малознакомым человеком. Но это не мешало старожилам, ведущим свой род от древних ливов, проводить тайную перепись населения, чтобы в космическую делегацию отобрать самых стойких и представительных потомков «звездных людей». Об этой переписи проведал Ливик Генделист. Согласно его заверениям, он был включен в список покорителей космоса, так как без собственного летописца, искусного мастера «информ-бля-шек», готового из любой межзвездной дали дать первополосную заметку в газету «Латвийский моряк», латышским аэронавтам не было смысла покидать свои обустроенные квартиры с центральным отоплением и дашавским газом.
Собственно, история Сигулды ничем не отличается от преданий. За две-три тысячи лет до нашей эры здесь жили финно-угорские племена. До конца двенадцатого века Сигулдой владели ливы, чьими потомками почему-то хотели называться многие латыши. Затем ее отвоевали немецкие рыцари-крестоносцы. В 1562 году, во время Ливонской войны, город перешел в руки поляков. Потом его отбили шведы. Потом… потом… потом... Северная война. Первая мировая война. Гражданская война. И лишь в двадцатых годах, когда в Латвии впервые была провозглашена независимость, жители Сигулды вырвались из-под опеки чужеземных властителей. Но всего на двадцать лет. Потом договор Риббентроп-Молотов. Вторая мировая война. Неизвестно какая по счету оккупация. И опять, с потерей независимости, тайно жди космических кораблей с голубой звезды Сириус, на которую были сориентированы египетские пирамиды, как говорили мне местные знатоки астрономии и уфологии.
Так это или не так. Но с появлением летающих тарелок над Сигулдой, они стали собирать чемоданы. Что стало с ними и их чемоданами впоследствии мне неведомо. Поговаривали, что одних определили в психушки, других отправили в места не столь отдаленные. Во всяком случае, при последующих наездах в Сигулду я не сталкивался ни с кем из тех, кто делился прежде тайнами своего происхождения и стремился побывать в космосе «за красивые глазки». Я не оговорился, сказав – «за красивые глазки». Как доказывал мне Рихард Упит, бывший экскурсовод по латвийской Швейцарии, у потомков космических пришельцев глазной хрусталик с секретом. Каким – хрен его знает! Но космические отцы, если заглянут при помощи какого-то хитрого микроскопа в их «красивые глазки», мигом отличат своего внука-правнука от любого другого охотника прокатиться по Млечному пути «зайцем». Халявшиков, получается, и они не жалуют.
Мне Рихард Упит самолично выделил участочек на обрывистом берегу Гауи для установки палатки.
- Здесь место для костерчика, - показал мыском закрытой сандалии на округлую черную плешь земли, расположенную в центре лужайки со скошенной травой. -Здесь место для бивака. Костер запалите, не забудьте его потушить. Пить будете, пустые бутылки в Гаую не кидать.
- Выпить можно и сейчас, - предложил я.
- А что у вас?
- «Сухарик».
- На службе не пью. Мне и других ребят надо устроить. Слышишь, уже поют, а палатку еще не поставили, - сказал Рихард.
- Водку пьют, оттого и распелись.
- Согласен. Водка – песенная продукция. Вот их мне и надо устроить.
- Бывай!
Мы раскинули палатку, разложили костерчик, открыли бутылочку. У нас было в наличии все: и выпить, и закусить, и хорошее настроение. И поговорить было о чем – без «лишних» ушей. Представляю компанию: брат мой Боря, его Тамара, я и моя Галка Волошина, сокурсница и подруга Бориной жены.
Ближе к ночи, когда стало смеркаться, мы залезли в спальные мешки: по двое в один, соблюдая туристический принцип: пусть в тесноте, зато в тепле. Боря с Тамарой. Я, понятно, с Галкой. И сделали вид, что заснули, прислушиваясь к равномерному дыханию соседей, чтобы определить, когда они отключатся от нашей действительности. Тот, кто был молод и регулярно выезжал на выходные с палаткой за пределы коммунальных квартир, прекрасно поймет, почему мне и Галке не спалось. Не спалось, и все тут!
- Извини, - пробормотал я, вылезая из мешка. - Я на минутку.
Реакция на сухое вино – известная. Я выбрался из палатки, и первое, что бросилось в глаза: это раскаленные угли, ярко попыхивающие искрами. «Придется на обратном пути водой их залить, а то еще ветерком разнесет – и пожар, - подумал я и вышел на отвесный берег. Подо мной, на глубине чуть ли не в десять метров, светилась капризная Гауя, любящая завлекать неосторожных пловцов в омуты и водовороты. Но сверху она выглядела совершенно не опасной. И мне вдруг вспомнился детский стишок: «На берегу реки Дуная Пушкин сцал на Николая». Вспомнилось, и я последовал примеру Пушкина, отнюдь не помышляя об унижении какого-либо Николая.
Косая струя, не рассеиваясь в воздухе, скользнула с десятиметрового обрыва к воде, прямиком в центр лунного отражения, которое… Которое внезапно покрылось волнистой тенью. Я поднял глаза вверх, и увидел прямо перед собой, метрах в ста, летающую тарелку, попыхивающую изнутри жемчужным огнем, с иллюминаторами перламутрового свечения. Долго ли длилось мое удивление? И испытал ли я его вообще? Понятия не имею. Знаю лишь одно: в какой-то миг я почувствовал неловкость оттого, что меня заснимут космические фоторепортеры не в очень приличном виде. Вспомнив, что «у советских собственная гордость», я опустил глаза долу, чтобы застегнуться. А потом, когда вновь устремился к небу, чтобы позировать в надлежащем для первой полосы виде, оказалось, не перед кем уже выставляться. Тарелки и след простыл. А вот там, где она была, небо посветлело, да и везде вокруг. Я обернулся к палатке, вспомнив, что так и не загасил искрящие угли. К моему недоумению, костер прогорел вовсе, угли превратились в серый порошок, будто для них, как и для неба, время переключило коробку скоростей, и в две-три минуты вместило несколько часов.
В палатке все спали крепким предутренним сном. Я не стал никого будить, пристроился на пеньке рядом, раскрыл походный блокнотик и стал эскизно по памяти набрасывать привидевшуюся небесную тарелку и описывать свои впечатления…
В следующее воскресенье республиканская газета «Советская молодежь» выдала сенсационный разворот о неопознанных летающих объектах над Сигулдой. Чуть ли не с десяток заметок очевидцев. И каждая – подтверждение того, что мы – не единственные разумные существа во Вселенной. Однако такие наблюдения и выводы не устраивали кураторов молодежной газеты из ЦК компартии и комсомола Латвии, и они бросили летучие отряды дружинников на киоски. Но опоздали, бесы, изъяли далеко не все. Газета уже разошлась, и передавалась из рук в руки, как подпольная прокламация, а на «черном рынке» шла за баснословные по тем временам деньги: за четвертак. Представьте себе, люди платили двадцать пять рублей за товар стоимостью в две копейки. Ничего не скажешь: русский бизнес, прибыль в тысячу процентов и без всякой затраты собственных средств.
10.
Бедный Ливик Генделист! Подобные физиономии встречаются в фильмах о покинутых любовниках. Ни кровиночки в лице, как писали беллетристы девятнадцатого века. В движениях заторможенность. А ведь занимается очень опасным для жизни делом: ошкуривает картошку остро заточенным ножом. Да-да! Ливик Генделист, лучший кок-деликатесник Латвийского торгового флота, чистит картошку. И где? На родном судне, будто там дневальных никогда не водилось. Что это такое случилось с ним?
Так я и спросил, войдя на камбуз и увидев его сидящим на табуретке у двух ведер.
- Что с тобой?
- Закрой дверь! – ответил Ливик.
Я плотно закрыл металлическую дверь, чтобы никакие подлые слухи не проскользнули наружу. И прибавив таинственности, повторил свой вопрос.
- Что с тобой?
- Янат…
- Что? Выкидыш?
- Пропала, - потерянно пробормотал он.
- Не городи чепухи!
- Пропала, говорю тебе! - повысил голос.
- Да ведь полный штиль…
- Оки-доки – «полный штиль!». Ты – что? Русского языка не понимаешь? -вспылил мой приятель. - Я не говорю: смыло за борт. Я говорю: пропала! Была здесь, когда я шел в курилку. И пропала, когда вернулся. Вот такая информ-Бля!-шка.
- А ты ее искал? Может, она в гальюн отвалила?
- Не ерунди! Это я отвалил в гальюн. После курилки. А потом - раз-цвай-драй! -прямым ходом на камбуз, и… никого… Я все осмотрел, обыскался! Нет ее нигде! А у нас не такие правила, чтобы - в самовольную отлучку. Люди кушать хотят!
- Ну-ну, не зря у французов по любому поводу - «ищите женщину».
- Но не на судне! Дошло? Обед ждать не будет! А не поспею с обедом – жди расследования… И тогда…
- Ладно, Ливик! У нас еще пропасть времени.
- Но я не имею права шнырять где ни попадя!
- Ливик, зато я имею. Любознательный журналист, видите ли. Не боись! Посуюсь везде. Глядишь, в какой койке ее и обнаружу!
- Я тебе обнаружу ее в койке! Винтики у тебя в порядке? - Ливик Генделист покрутил пальцем у виска.
- А вот это мы и проверим! Сначала мои винтики, а потом тебя на ринге. Тоже мне, перворазрядник по боксу!
И я отправился на поиски.
…В машинном отделении я поговорил со стармехом Огневецким о технической оснащенности судна, о тех тысячах лошадях, впряженных в судовой дизель, чтобы «отразить в газете свои личные впечатления о научно-технической революции на флоте».
И убедился: Янат здесь нет.
…С первым помощником Харламовым совершил беглую экскурсию по каютам командного состава, чтобы «отразить в газете состояние быта советского моряка дальнего плавания».
И убедился: ни одна койка не примята.
По матросским кубрикам я не стал ходить. Там между вахт спят по несколько человек, и втихую не проведешь никакого «любовного соития на сексуальной почве». Все – как в коммунальной квартире, ничего не скроешь. Более того, припишут и то, чего в действительности не было.
И тут меня «осенило». Что, если поискать в лазарете? Самое укромное местечко для тайных свиданий. К тому же пора и с местным Эскулапом познакомиться – как никак чемпион всесоюзного «Буревестника», член сборной команды нашего судна, капитаном которой, со слов Стасика Карасика, определен я.
Но знакомство с доком пришлось оставить «на опосля».
Судовые склянки позвали в кают-компанию: так незаметно, за хлопотами о судьбе беглянки Янат, натикало время обеда.
11.
В кают-компании, в кресле у журнального столика, сидел Алексей Рогычаев, старший помощник капитана. Задумчиво посматривал в иллюминатор и нехотя, с какой-то леностью пощипывал струны гитары, лежащей на коленях. Мелодия была мне знакома. Помнится, на фестивале художественной самодеятельности моряков в нашем Интерклубе Рогычаев был удостоен за эту песню первого места, о чем я тогда и написал, отметив, что «авторское исполнение отличалось особой задушевностью, свойственной людям, находящимся в долгом отрыве от берега и своих любимых». Как ни смейся сегодня над журналистским стилем конца шестидесятых, однако чувство, с каким пел сибирский моряк, и впрямь – «отличалось особой задушевностью». Чем это доказать? Да и как это передашь на бумаге? Остается одно: настроиться душой и прочесть рогычаевские стихи, ощущая на лице порывистое дыхание арктического ветра, соленые брызги только что освобожденного ото льда моря.
- У компаса нет для нас, - пел Рогычаев, делая ударение на втором слоге в морском слове «компас», как и положено бывалому моряку, - лишней стрелки про запас. У компаса правило: курс – «туда», хоть рвись – «обратно». Уходить легко, а приходить приятно.
- Возвращаемся к жизни, - подхватил я, пристраиваясь напротив старпома к журнальному столику.
Он кивнул, принимая меня в компанию:
- Возвращаемся к жизни,
и к любви,
если жизнь - любовь…
- А к боксу? - ввернул я в нужный момент, зная наизусть авторский текст. - Слабо?
Алексей Рогычаев усмехнулся.
- Пришел агитировать?
- Да нет, к слову пришлось. «Возвращаемся к жизни...» А тут как раз поступило предложение вернуться к жизни и первой любви – боксу.
- Наслышан, наслышан. Но я не с Даугавы, я с Лены. И первая моя любовь - не бокс, а гребля… или что похожее в рифму… Главное, чтобы лодчонка да девчонка! А бокс… Не возрастное это дело. Старик! И… и…
- Проигрывать нельзя, так, что ли?
- Авторитет, дорогой ты мой журналист!
- Его и кулаками зарабатывают.
- В моем возрасте «на кулаках» его можно только потерять.
«Рассудочность» Рогычаева была мне понятна. Он достаточно намаялся в «бичах», так что рисковать авторитетом не имел никакого желания. Чувствовалось: продолжения разговора о боксе у нас не получится. К тому же в кают-компании стали собираться люди.
- Кушать подано!
«За столом никто у нас не лишний», - вспомнилось мне, когда мы рассаживались вдоль полированой под красное дерево громадины, установленной на толстых «биллиардных» ножках. «Никто не лишний» - имело для меня какую-то комическую подковырку. Рассаживались по старшинству: капитан Гальферин во главе стола, на торце, старпом Рогычаев справа от него, первый помощник Харламов слева, стармех Огневецкий на противоположном конце стола, лицом к капитану. А где пристроиться мне? Напротив первого помощника? Займу место старпома. Рядом со старпомом? Займу место второго штурмана.
- Садитесь ко мне, - позвал меня незнакомый моряк с двумя широкими золотыми полосками на погонах форменки. С виду - лет под тридцать, высокорослый, светлые волосы гладко зачесаны назад, глаза цвета морской волны.
- Эрих Владимирович Эриксон, - представился он,
- Боксер? - разом вспомнилась мне рекомендация Стасика Карасика.
- И боксер тоже, - как-то неопределенно ответил он.
Мне показалось, что все прислушиваются к нам. И я, чтобы не сплоховать неведомо в чем, быстро поправился.
- Понятно, здесь вы судовой док.
- И судовой док тоже. А что до бокса, заходите ко мне в лазарет, там у меня боксерская груша в приемном покое к потолку подвешена. Для успокоения слабонервных.
Не дать, не взять, ожидает меня тут какой-то розыгрыш. Но какой? В чем загвоздка? По фамилии он швед. Но Стасик Карасик ясно дал понять: «швед славянских кровей». К тому же иностранцем быть по определению не должен. Да и смешно. Перебежчик? Оттуда? И на тебе, виза – «туда». Почти как в Рогычаевской песни: курс – «туда», хоть рвись – «обратно». Уходить легко, а приходить приятно.
- Варяг?
- Нет, я не из варягов в греки, - засмеялся швед славянских кровей. - Я внук выстрела «Авроры».
- Как так внук?
Теперь уже, устраиваясь за столом, смеялись все.
Первый помощник капитана Харламов на скоростях пояснил мне:
- Помните выстрел «Авроры»?
Я заученно, как в четвертом классе на уроке истории, утвердительно мотнул головой.
- Комиссар Белышев приказал: Пли!», а комендор Евдоким Огнев и дернул за веревочку. В результате получился исторический выстрел из бакового шестидюймового орудия.
- Отлично! А кто был командиром «Авроры», кто провел ее по Неве к Зимнему дворцу и не посадил на мель?
- Это мы не проходили.
- А журналистская любознательность? А – «никто не забыт и ничто не забыто»? К вашему сведению, дорогой мой «Латвийский моряк», командиром «Авроры» на тот исторический момент был старший лейтенант Эриксон, - после секундной заминки добавил: - Николай Адольфович.
- Дед?
- Предок, - опять с какой-то неопределенностью отозвался судовой врач.
- А Владимирович - вы?..
- Ну да, папа назван - в честь Ленина. В честь кого еще его называть, если семья поспособствовала революции?
- А революция – семье?
- Это лишнее, - заметил первый помощник Харламов. - Но в блокнотике можете отметить: обошлось без репрессий, старший лейтенант Эриксон, по личному ходатайству Владимира Ильича, получил в 1922 году разрешение на репатриацию в Швецию. А вот его потомки, носители славной фамилии революционного моряка, остались в России, дабы преумножить ее славу.
- И к столетию со дня рождения Ленина взяли повышенные обязательства, - сыронизировал судовой врач. - Выйти на боксерский матч с амдеровцами и разбить их наголову.
Я подумал: как легко далось Якову Ивановичу запретное для нас слово «репатриация». До чего же богат на смыслы русский язык! Когда речь заходит о шведском моряке, говори без стеснения вслух – «репатриация на историческую родину»! Но тут же забудь об этом в связи с Израилем. Только откроешь рот, чтобы вякнуть о праве евреев на репатриацию, как тебе его тотчас запечатают сургучом.
Эрих Владимирович, не догадываясь о моих мыслях, протянул мне руку:
- Поручкуемся или поспаррингуем?
Мы обменялись рукопожатием.
- Поручкуемся. Не в одной мы весовой категории, чтобы спарринговать.
- То-то и оно! Заходите после обеда. Как у вас с давлением?
- Позволяет.
- Я не о том. У нас сухой закон. Но провериться на давление – не повредит. Мне ведь на вас медицинскую карточку заводить. А то до соревнований не допустят.
- Заводите. Я – чистый, без гриппера.
Дневальные занесли большую кастрюлю с борщом. Разместили фаянсовые тарелки по специальным держакам, чтобы при качке ничего не выплескивалось. И ложки принялись за свое благородное дело…
Ам-ам, вкусно нам!
12.
Послеобеденная сигарета – самая сладкая, в особенности для того, кто еще не закупорил легкие копотью. С этой, вычитанной у кого-то мыслью неоперившегося курильщика, я вытащил из кармана пачку «Элиты».
- А вот это – лишнее, - заметил Эрих Эриксон, будто уже сменил квалификацию на спортивного врача, готовящего меня к соревнованиям.
- Один грамм никотина убивает ломовую лошадь, - усмехнулся я.
- Да будет вам! Это то же самое, что положить в карман кусок льда и не замочиться, - он посмотрел на наручные часы - «кирпичек» - Сейчас у меня прием. Думаю, за час управлюсь.
- На судне больные?
- Случаются и больные. Но тут непредвиденный случай.
- Что-то вроде операции аппендицита в море?
- Ищите сенсацию?
- У нас пресса без сенсаций, Эрих Владимирович. У нас рубрика: «так поступают советские люди».
- Хорошо поступают советские люди. Я в курсе. Заходите через часик, и мы поступим с вами тоже хорошо.
Какая-то неграмотность или двусмысленность проскользнула в словах шведа славянского племени. Однако в ней мне почудился намек на нечто приятное, пусть и неожиданного толка.
Устроившись под иллюминатором в кресле у журнального столика, я попыхивал сигаретой и листал подшивку нашего «Латвийского моряка». Вдали от Риги газета смотрелась совсем по-другому, чем в редакции. Именно «газетой». Это трудно объяснить, но понять легко. Дома она представлялась какой-то «комнатной собачонкой», будто и не выходящей за пределы Интерклуба. Не то, что здесь, на краю Земли. Как мне было ведомо, перед заходом в иностранный порт подшивку прятали в сейф, чтобы иностранцы, не дай Бог, не прочли в «Латвийском моряке» что-то секретное. Секретного же там практически ничего не могло появиться по определению. Правда, так представлялось нам, авторам, желающим быть «прочитанными и понятыми между строк» и за рубежами нашей страны.
На борт наших танкеров и сухогрузов иногда поднимались журналисты радиостанций Би-Би-Си, Голоса Америки, Свободной Европы, представляющиеся обычными экскурсантами. Но чаще ностальгирующие белоэмигранты, их дети и внуки. Многие из них числились в «друзьях советского народа» или в «побратимах судна», входили в какие-то общественные комитеты, субсидируемые Москвой. И, казалось бы, ничего дурного не будет, если эти люди полистают подшивку нашей газеты. Но так казалось нам, честолюбивым авторам очерков, статей, фельетонов, не знакомым с хитросплетением умов кагебешников-особистов, погруженных по уши в шпиономанию. В высшей степени подозрительной им представлялась постоянная рубрика четвертой полосы «Где наши суда?», которая давала далеко не полный перечень теплоходов и пароходов, прибывших в те или иные порты. Специалисты из «органов» вывели, что вражеские аналитики способны по этой рубрике вычислить общее - засекреченное, надо понимать - количество судов Латвийского морского пароходства, определить коллективный, так сказать, тоннаж их грузоподъемности. Цитата: «Разгорись новая мировая война, это им сыграет на руку, а нам нанесет значительный урон в живой силе и материальных ценностях».
Лично мне думать о последствиях новой мировой войны совсем не хотелось. В моей голове, как и в любой другой, побывавшей в «штабных» кабинетах нашего пароходства, крутилась совсем не секретная цифра – 69. Именно таким количеством судов располагал Латвийский торговый флот, если я не ошибся и не перепутал ее с другой, по тем временам столь же не секретной для рижанина цифрой.
А вот и рубрика «Где наши суда?» Сколько их в этой подборке? Двадцать пять? Не густо. Пароход «Янис Райнис» - Ливерпуль. «Волоколамск» - Дублин. «Имант Судмалис» - Мурманск. О! Гляди, пересечемся в море. Придется навестить. А газовоз «Кегумс»? Ага! Нашел. «Кегумс» прибыл в Одессу, на родину моих предков. Танкер «Прейли»? «Прейли» разгружается в Роттердаме. Тут и моя заметка. Как раз на четвертой полосе и как раз про Роттердам.
Посмотрим-поглядим...
Шторм в Северном море
Это случилось не сегодня и не вчера. Двадцать лет минуло. Ветеранам флота памятен пронесшийся тогда над Северным морем ураган сокрушительной силы, сметавший все на своей пути. Эфир был заполнен сигналами бедствия.
Пароход «Стрельня» стоял в Роттердаме. Моряки нервничали.
- Ну и штормяга!
Молодой начальник радиостанции В. Бураков получал «погоду». Стихия не думала менять гнев на милость. Приемник был настроен на московскую волну. Радиограмма: «Немедленно выходить в Северное море на спасение двух советских кораблей».
Записав координаты местонахождения судов, радист бросился к капитану.
Командир судна отправился «заказывать» лоцмана. Но тот, поднявшись в штурманскую рубку, первым делом спросил:
- Какой у вас максимальный ход?
- Восемь с половиной узлов.
- Гуд бай! - сказал лоцман. - В такую непогоду это не ход. Надо минимум 15 узлов.
К утру шторм начал стихать. Капитан вновь вызвал лоцмана. Видя такую настойчивость, тот решил помочь «Стрельне», но предупредил:
- В открытое море выходите самостоятельно. Я доведу вас лишь до лоцманской станции.
Бураков попытался по рации связаться с судами, на розыск которых двинулась «Стрельня». Эфир был забит. Идти на координаты, полученные ночью, было бесполезно: за прошедшие часы многое изменилось. Наконец связь наладилась.
- Идем к вам навстречу. Доложите местонахождение, - передает Бураков.
- У нас все благополучно. Добрались своим ходом до Флюссенгена.
Не успел начальник радиостанции доложить капитану о том, что их помощь уже не требуется, как шторм будто решил отыграться на «Стрельне». Пять суток моталось судно в море, выдерживая схватку с разъяренной стихией. Пять суток занял путь от Роттердама до Кильского канала.
А затем двое суток по приходу в Вентспилс экипаж пытался «оттаять» ледяной покров на палубе «Стрельни». Латвийские докеры с каким-то суеверным восхищением рассматривали прибывших.
- На таком старом корыте - и в такой дикий шторм? Невероятно! Не даром написали о вас в «Комсомолке».
- Что?
Моряки удивленно переглянулись. «Комсомолка»? Отправили гонца за газетой. Оказывается, там опубликована статья, посвященная спасшимся судам и суровому рейду «Стрельни».
- Володя! - обращались ребята к Буракову. - Ты часом информацию в редакцию не отправлял?
Радист только отмахивался от этих шутливых замечаний:
- Не до того было.
За смелость, проявленную во время тяжелого морского похода, когда, не взирая на одиннадцатибальный шторм, «Стрельня» вышла на спасение советских кораблей, ЦК ВЛКСМ наградил Почетными грамотами радиста В. Буракова, боцмана Н. Чернухина, третьего помощника капитана Н. Шелушенкова.
Е. Гаммер
13.
Да, интересно вот так встретиться с самим собой, за сотни километров от редакции, и будто в ином временном измерении. Но куда как интереснее и неожиданней прочитать вдруг не себя самого, любимого, а и вовсе потерянного для нескольких поколений автора из давно уже несуществующей газеты. Не тот ли это сюрприз, что послышался мне в словах «внука выстрела «Авроры»?
Кронштадтский вестник
(опубликовано 12 мая 1900 года по старому стилю)
«Вчера, 11-го мая, в Санкт-Петербурге, происходило морское торжество – спуск на воду крейсера 1-го ранга «Аврора». Погода была ясная, тихая, теплая. Крейсер выходил из-под крыши эллинга кормой вперед, и на нем поднимались флаги. Как только носовая часть крейсера погрузилась в воду, были отданы оба якоря. С судов, стоящих на Неве, был произведен установленный салют».
Эта заметка - размер 13х18 сантиметров, фотобумага фирмы «Унибром» - была отпечатана на фоне крейсера «Аврора» и прикноплена к деревянному мольберту, стоящему в кабинете Эриха Эриксона. Кабинет был пуст, но за ним, в «больничной палате», слышалась какая-то невнятная возня.
- Вы уже кончили? Кто-то пришел! - донесся приглушенный женский голос. По тембру вроде бы пропавшей нашей красавицы Янат.
- Одевайтесь!
Врач выглянул из-за двери.
- Это вы? Я ведь просил не раньше, чем через часик…
- Помешал?
- Не то, чтобы помешали. Не ко времени. Она еще не отлежалась.
- Могу и в другой раз.
- Другого раза не получится, если вы все поймете превратно.
- «Ничего не видел, ничего не знаю». Так, что ли?
- А что вы видели?
- Ничего.
- Тогда откройте глаза, посмотрите на пациентку. Янат! - позвал он девушку. - Вы свободны.
Как-то неловко, припадая на ногу, будто ей больно ходить, Янат вышла из каюты-палаты.
- Здравствуйте, - пряча глаза, она виновато шмыгнула носиком и протиснулась между мной и мольбертом к выходу.
Мне стало как-то совестно, словно подглядывал в замочную скважину. Но я ведь никуда не подглядывал! Попросили – пришел. И тут - на тебе! - душа пропащая, по всему судну разыскиваемая. Что ей сказать?
- Привет, Янат-Таня! - сказал, и добавил автоматически: - Ливик тебя не доищется. С ума сходит. Сам картошку чистит.
- Догадываюсь.
Нервным тиком исказило лицо девушки и, едва сдерживая слезы, она выскользнула за дверь.
Эрих Эриксон указал мне на стул, сам сел за стол, напротив.
- Вопросы?
- У матросов нет вопросов, - ответил я, не желая преждевременно, до реакции Ливика Генделиста, вмазываться в выяснение непонятных мне отношений.
- Тогда вопрос у меня. Почему Янат - Таня?
- По кочану! Слева направо – Янат, справа налево – Таня. Двойное имечко, для латышей - латышское, для русских - русское. Братство народов, пхай-пхай!
- А расшифровывается на еврейский лад?
- Я не шифровальщик. Я филолог. ЛГУ, отделение журналистики.
- Что ж, тогда проверим давление. Снимите пиджак. Заверните рукав рубашки. Так… Вот так… Молодцом.
Док охватил мне мышцу правой руки черной надувной повязкой, стал пальцами раз за разом давить на грушу и наблюдать за шкалой, по которой чуть ли не до верха резко подскочил ртутный шарик, чтобы потом плавно опуститься вниз, порывисто вздрагивая на двух отметинах: 110 и 70 .
- У меня зачастую чуть пониженое, - подсказал я врачу.
- С похмелья? Или от сгонки веса?
- И от сгонки тоже.
- Значит, кофе вам только на пользу. У меня растворимый. «Элит».
- Откуда? - удивился я, помня, что это - «посылочное» кофе в металлических баночках - большая редкость даже в Риге, и его можно достать только у евреев, имеющих родственников в Израиле. А их еще не сильно много.
- Оттуда, - невозмутимо ответил Эрих Эриксон.
- У меня там никого нет! - среагировал я совсем некстати. А в мозгу стрельнуло: «Не стукач ли?»
- И у меня. Но я не учусь читать справа налево.
- Вы – потомственный моряк. Читаете по звездам.
- А-а, и вы, значит, видели?
- Что?
- Летающие тарелки.
«Точно, и не просто стукач, а комитетчик! - поставил я диагноз. - Стасик ведь говорил, что никто о них не обмолвится на судне ни словом. Видел, не видел - главное - молчок! Иначе законопатят! А этот?..»
Я сделал постную физиономию.
- Какие тарелки?
- Те самые, что у нас по курсу из-под воды выскочили.
- Не видел.
- Так вот! Да будет вам известно, и Янат их не видела. А потом - бац! – и оказалась на борту одной из них.
- Вы меня за этим пригласили?
Эрих Эриксон разлил кофе.
- И за этим.
Затем нагнулся, вытащил из нижнего ящика стола фляжку с медицинским спиртом, плеснул по мензуркам.
- И за этим.
- А сухой закон?
- Вы все равно сегодня еще не сухой. С похмелья.
- Мокрый еще, совсем мокрый, как после тренировки.
- Тогда - «прозит»!
Мы глотнули в один прием, крякнули, запили кофейком. И меня как-то отпустило. Хрен его знает, может, и не стукач. Кто их разберет, этих загранщиков? По одному их на берег в иностранном порту не отпускают. Ходят тройкой. А один из троих, пожалуй, и пишет рапортички. В чужую шкуру не залезешь, а свою все равно не убережешь, сколько ни осторожничай. У тебя с «ними» всегда - первопуток, а у «них» с тобой иначе. У «них» всегда - тропа проторенная предшественниками, освоенная на уроках психологии, изученная до каждого извива. Ты слышишь от постороннего человека об Израиле, инстинктивно определяешь его – «не свой», и сразу кидаешься в подозрения: не провоцирует ли? А он, поди, просто любопытствует. Может быть, и ему желательно выхватить хоть толику об этой загадочной стране, родине библейских пророков. Как никак, но в Шестидневной войне малышка эта разгромила самые мощные на Ближнем Востоке арабские армии, оснащенные, кстати, советским оружием. Да, но почему Эриха Владимировича понесло к летающим тарелкам? Знаком с тем выпуском «Советской молодежи» об НЛО над Сигулдой? Или кто-то стукнул, что я уже не первый раз встречаюсь с ними? Вот и вывел - это к смеху, конечно, - будто инопланетяне прилетают на связь со мной. Нет, не утрируй. Не своди свои дурости к космической шпиономании! А то ведь с похмелья и впрямь водка по мозгам ударила. Тут что-то другое. Но что?
Вот это - «что?» - из меня и вывалилось невзначай.
- Что? - спросил я, чувствуя, как хмель катает меня уже в потных ладонях, и потянулся мензуркой за второй порцией спирта, который – хитрец! – имеет свойство оказывать с опозданием свое пагубное влияние на организм: чем больше жидкости в себя вольешь, хоть колодезную воду, тем сильней окосеешь.
Судовой врач разлил по второй. Мы глотнули в один прием, крякнули, запили кофейком.
- Подозрения отпустили? - поинтересовался Эрих Эриксон.
С пьяной смелостью я ответил:
- Временно отпущены. Под подписку о неразглашении.
- Разглашения не будет. Должны понимать, при разглашении Янат спишут на берег. И – прощай море.
- Здесь она, понятно, нужнее, - схохмил я.
- Ваше остроумие неуместно. Вы и не подозреваете: она действительно побывала там, - он показал пальцем на потолок. - И там с ней проделали какое-то медицинское чудо, не пойму - как и, главное, зачем. Вынули из нее зародыш ребенка, понимаете…
- Аборт?
- Если бы аборт… Нет, ничего в ней не вычищали. Я сейчас все проверил. А вы некстати все засвидетельствовали. Теперь мы повязаны… Узнают… Мне за проявленную самодеятельность и за недонесение тоже быть списанным и визы, пожалуй, больше не видать.
- Не узнают. Я из породы молчальников.
- Это и видно. Тогда слушайте дальше. Не представляю - как, но там вынули плод, а это уже полностью сформировавшийся ребенок. Вынули, и все тут. Будто - там, - он опять показал на потолок, - они способны довести младенца до кондиции.
- Вырастить, - перехватил я, - и прислать к нам иноземного шпиона под видом человека.
Эрих Эриксон недовольно поморщился.
- Бросьте! Какой из вас майор Пронин? Все гораздо сложнее. У вас хоть есть какое-то представление, откуда они прилетают? Вы – журналист, с разными людьми общаетесь. С учеными мужами, полагаю, со степенью в области физики, астрономии.
- Представление у меня есть, - заверил я, готовый в «кирном» состоянии высказать свои революционные идеи. - Но прежде уясните простую истину.
- Попробую. Ну?
- Где мы находимся?
- В море.
- А под морем - что? Продолжение Сибирского кряжа. Многокилометровый подводный шельф. Миллионы лет он существовал прежде, в мире с динозаврами, над поверхностью моря. А потом опустился туда, к рыбам на дно.
- Вместе с динозаврами?
- А вы без иронии, Эрих Владимирович! Не только с динозаврами. Но и с людьми. Вы - что? – думаете за сто двадцать миллионов лет существования динозавров не появились в ту пору разумные человеки? Какая же после этого эволюция? Никакая! И Чарльза Дарвина следует перечеркнуть. А теперь задумаемся: когда появилось современное человечество? Всего каких-то шесть тысяч лет назад. Так?
- По Библии мы и от сотворения Вселенной далеко не ушли.
- Бросьте теперь вы городить чепуху, товарищ Эриксон! Человек, как разумное существо, развивается всего где-то шесть тысяч лет. Это и без Библии известно – ученые доказали! При этом только за последний век этот наш человек сумел из первых самолетов братьев Райт пересесть на спутники и шагнуть в космос. Теперь представьте себе, что у наших предшественников был хотя бы один полезный для развития ума миллион лет. Это из ста двадцати, положим, пещерных, не пригодных для разумного развития. А? Примите это за рабочую версию. И будьте уверены: они такие подземные ангары отгрохали до потопления на окраине Сибирского кряжа, что любо-дорого. И преисполненные комсомольского энтузиазма ушли под воду со всеми полезными ископаемыми, чтобы оттуда вылетать наружу и смотреть за нами, неумехами: правильным ли путем идут их товарищи по эволюции. А потом, когда убедятся…
- Продолжайте, продолжайте…
Но «продолжение» застряло у меня в горле. Оно выглядело «несъедобно», если предположить, что Эрих Эриксон примазан таки каким боком к скрытому племени комитетчиков.
- Давайте лучше еще по маленькой! - нашелся я.
- Еще по маленькой, а потом, дорогой мой человек, в «солому».
- Куда?
- Спать!
Мы глотнули в один прием, крякнули, запили кофейком.
- И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, - затянул я, чтобы сбить судового врача со следа моей мысли, но не преуспел в этом. Он логически точно развернул мой намек во всю его опасную ширь.
- А потом, когда убедятся, что их товарищи по эволюции идут неправильным путем, заменят их так, что никто и подмены не углядит. Выведут новую породу…
- По образу и подобию нашего человека, - подсказал я, коль уже деваться было некуда. - И отсель, от Старого Сибирского кряжа, вновь пойдет вперед человечество. Семимильными шагами – к новому светлому будущему.
- Русское по крови и существу? Это вы имеете в виду?
- Русское-русское, Эрих Владимирович Эриксон. Но с примесью динозавра. Раскосые глазки, знаете ли, зубастая пасть. К тому же неизвестно, какие алфавиты изучали они на дне морском. Может быть, подводным Марксом созданые… справа – налево, так сказать.
- Умно, но…
Тут мне вспомнилось, что о предстоящем спортивном матче мы и не упомянули.
- Товарищ Эриксон, - сказал я, поднимаясь со стула. - А где у вас тут боксерская груша к потолку подвешена? Обещали ведь показать…
- Дошли до кондиции?
- А что нам, малярам? Постоим за русскую землю! Давай сюда иноземцев с летающих тарелок!
- Пройдемте…
В приемном покое - палате на четыре койки, поставленные в два яруса, - Эрих Эриксон легким тычком заставил грушу, прикрепленную на электрошнуре вровень с его плечом, плавно ходить из стороны в сторону.
- Бей!
Я ударил и промахнулся.
- Бей! - повторил он.
Я ударил, и груша стала вертеться вокруг оси, как ужаленная. Видимо, задел ее лишь костяшками кулака, скользяще, по краю.
- Идите спать, - резюмировал доктор. - Вы еще не в форме, что и следовало доказать.
Я повернул на выход. Но он остановил, хватко взяв за локоть.
- Куда вы? Без пиджака? И в таком виде, с подвернутым рукавом? Заметят – доложат. А мы в море, у нас сухой закон. Ложитесь здесь.
- Но здесь Янат-Таня лежала, - заартачился я с «поддачи».
- А теперь полежите вы. И приснится вам…
Он не закончил. Но я уже точно знал, что мне приснится.
К слову, то самое и приснилось: летающие тарелки, выскакивающие из-под воды, с маленькими голубоглазыми и белобрысыми человечками, похожими на меня, как близнецы-братья.
14.
В полночь я приволокся в свою каюту и застал Ливика Генделиста в каком-то помраченном состоянии. Локти на тумбочке, подбородок в ладонях. Полуодет-полураздет: кальсоны, тельняшка, морская курточка. Сидит на койке у ночника и долгим немигающим взглядом пялится на лампочку, будто это экран телевизора.
- А ты где пропадал? - незряче посмотрел на меня.
И действительно натруженным глазам его я мог представиться форменным привидением.
- На летающей тарелке, - пошутил я.
Но мой приятель, стукнутый переживаниями, шутки не принял.
- И тебя тоже?
- Тоже, - брякнул я, не определяясь в ситуации.
- Оки-доки, материал на первую полосу! Пиши информ-бля-шку, - вздохнул Ливик.
- Но ни одна редакция не примет.
- Ну да! Янатку утащили прямо из камбуза. И куда? В космос. Ребенка вынули, девку домой доставили, и сказали: «молчи!». Кто такое напечатает?
- И не поверит.
- А ты веришь? Ах, да! Ты сам был там. Был?
- Был!
- С ней встречался?
Я немного замялся. Подумал: «куда это Ливик клонит?»
- Нет, она лежала в женском отделении! - бухнул первое, что пришло в голову.
В голове же крутнулось кульбитом: «Недоверие его заедает. Впрочем, какой мужчина примет на веру ее объяснения? А мои?»
Но Ливик был в том состоянии духа, на грани свиха, когда любое «потустороннее» свидетельство воспринимается без всякого внутреннего сопротивления.
- И что там?
Я немного помялся. Но фантазировать, так фантазировать. Главное, чтобы выглядело все правдоподобно. Хотя… не представляю, что тут правдоподобного:
- Много света! Все слеплено будто из света, - вдохновенно импровизировал я, будто вместо моего брата Бори включился в соло на… В моем случае, на языке: - И механизмы, и фигуры людей - все их чистого света, меняющего на глазах окраску. Просто как голограмма. О! - шлепнул я себя по колену, садясь на свободную койку, напротив Ливика. - А что, если это и впрямь все – сплошная выдумка, голограмма какая-нибудь?
- Думаешь?
- А то! Голограммой проще всего заморочить весь мир. Она и в России смотрится, как живая, и в Америке. И запузырить ее можно куда угодно.
- На самолетах?
- Нет, самолеты – это международный скандал. Запеленгуют, собьют. На подводных лодках проще. Всплывет где-нибудь в Бермудском треугольнике и давай кино на Флориду показывать. А?
- То-то они…
- Летающие тарелки?
- Само собой! То-то они возле наших военно-морских баз околачиваются, словно отсюда и родом. Лиепая! Североморск! А ведь базы эти – морские побратимы.
- Испытания, Ливик! Боевые учения!
- Раз-цвай-драй – у них подъем по тревоге. А нам указание: «забудь, что видишь, и заткнись в тряпочку, иначе – в психиатричку».
- Не бери в голову! Сплошной обман зрения, Ливик! Голограмма под видом нашего сверхсекретного оружия.
- Оки-доки, голограмма-голограмма… Чтоб тебя и твою маму! - вдруг вспылил Ливик Генделист. - Что ты мне морочишь мозги с этой голограммой? Ты ведь на ней побывал и не провалился под воду. И Янатка. Какая же это голограмма, когда она летающая тарелка?
Да, в логике ему не откажешь. Даже, когда он во взвешенном состоянии. И в бешенстве.
Ливик соскочил с кровати и поднес мне кулак к носу.
- Что ты там делал с Янаткой?
- Где?
- На летающей тарелке!
Я покрутил пальцем у виска.
- Ты того?
И получил удар по ребрам.
- Ах ты, мать твою, перворазрядник! - психанул я. И встал в стойку.
Ливик кинул правую, но не попал мне по лбу. Я успел отклониться и левым боковым засадил ему по скуле, уложил на одеяло верблюжьей шерсти.
Ливик проверил челюсть: не вывихнута ли?
- Порядок! - сказал.
- Успокоился, ревнивец?
- Я спокоен, как Тутанхамон в саркофаге.
- К твоей Нефертите я не имею никакого отношения. Не ко мне она ходит на медицинские анализы.
- А кто ей любовные акростихи писал?
- Акростихи писал, не отрекаюсь. Но не любовные.
- А кто говорил, что я с тобой не спарринговал?
- Чего? - удивился я. И внезапно осознал, что к чему. - Ну-ну, боксерское заело! Никак со Стасиком Карасиком пообщался?
Ливик Генделист посмотрелся в карманное зеркало, синяка не обнаружил. Умиротворенно сказал, махнув рукой.
- Он отказывается теперь, без твоего ходатайства, вводить меня в сборную команду.
- Введет, я порекомендую. Ты меня чуть на задницу не усадил.
- Промашка вышла не по моей вине, - измученно улыбнулся мой нежданный спарринг-партнер.
- По моей, - свел я все в шутку.
- Раз-цвай-драй… Дружба? - протянул он руку.
- Пхай-пхай! - я обнял страдальца, по-приятельски похлопал по спине. - А сейчас в «солому», а то и тренировочный раунд не выдержу – запарюсь.
И, не раздеваясь, отвалил на подушку.
Последнее, что услышал, это скрип цепей.
- Якоря!
- Что, Ливик? - пробормотал я спросонья.
- Оки-доки. Якоря отдают. Североморск!
- Передай ему привет от Лиепаи.
XXI век. Ассоциация седьмая:
МОРСКИЕ ПОБРАТИМЫ
Североморск.
Расположен на Кольском полуострове, в 25 километрах к северу-востоку от Мурманска. Морской порт на берегу незамерзающего Кольского залива.
Первое становище возникло на территории нынешнего города в конце девятнадцатого века, на рубеже 1896-1897 годов. Коренные жители Кольского полуострова - саамы - назвали его в честь местной горной речки, полной рыбы, – Ваенга. Всего же их в этом «медвежьем углу» насчитывалось в 1917 году 13 человек. Они занимались охотой, рыболовством и скотоводством. Но положение резко изменилось, когда бухта была выбрана для базирования создаваемого Северного флота. Произошло это в 1933 году. Накануне Великой Отечественной войны Ваенга стала достаточно крупным населенным пунктом, имеющим большое стратегическое значение для Советского Заполярья. Здесь базировалась авиация, наносившая мощные удары по гитлеровцам. А с 1947 года сюда передислоцировались штаб и управление Северного флота. Поэтому никаких более обстоятельных сведений о Североморске не имеется.
Лиепая (Либава).
Основана древними ливами более 750 лет назад. Первое упоминание о ней мы найдем в латвийских летописях 1253 года. Городом же этот приморский поселок, являясь владением Курляндского герцога Вильгельма, стал в 1625-ом. На грани веков, 17-го и 18-го, он обзавелся морским портом и каналом.
С приходом советской власти, после соглашения Риббентроп-Молотов, Лиепая превращается в крупнейшую военно-морскую базу на Балтике, где до распада СССР дислоцировалось значительное количество подводных лодок. Здесь в 1940 году, незадолго до войны с Германией, был построен военный аэродром. С него, как поговаривали старожилы, в июне 1941-го взлетали советские самолеты, которые бомбили Берлин. (Достоверно об этом ничего не известно.) Впрочем, и без того Лиепая прославилась не меньше, чем Брестская крепость. О ее обороне тоже был снят художественный фильм по сценарию Сергея Смирнова - «Город под липами», режиссер Алоиз Бренч.
Картина вышла на экраны к тридцатилетию обороны города.
А тогда, жарким летом 1941-го… Без пополнения боеприпасов и продовольствия местный гарнизон, возглавляемый генералом Дедаевым, более двух недель защищал морскую крепость. Уже была взята Рига, немцы рвались к Ленинграду, а горстка уцелевших моряков, находясь в полном окружении, продолжала сражаться с врагом. И под конец, не имея никакой возможности удержать город, совершила самоубийственный прорыв в направлении Шкедских дюн, ставших впоследствии латвийским Бабьим Яром. В живых почти никто не остался, они полегли там, где вскоре был создан концлагерь смерти.
Нацистами и местными националистами было уничтожено в Шкедских дюнах 18 тысяч евреев. (Понятно, расстреливали и людей других национальностей: в частности, военнопленных, подпольщиков, противников режима. Но ни в одном справочнике я не нашел данных о них. А вот о евреях сказано: 18 тысяч.)
Туристы, посещающие эти дюны в шестидесятые-семидесятые годы, нередко становились невольными свидетелями «скрытых достопримечательностей», появлявшихся, казалось бы, ниоткуда. На глазах экскурсантов прибойная волна выкатывала на отмель выбеленные черепа. Объяснялось это тем, что море подмыло берег и открылись давние захоронения - бывшие рвы с останками людей. Лично мне приходилось в 1969 году, когда редакция «Латвийского моряка» приехала в гости к морякам-подводникам, ходить по пляжному песку между человеческих костей. Там я и нашел небольшой серебряный перстенек с магендавидом, навечно приросшим к обглоданной рыбами фаланге пальца. Коснуться его я не смел. Поэтому щепкой, лежащей поблизости, выкопал ямочку в мокром песке и захоронил память о неведомом мне человеке, принявшем смерть только потому, что родился евреем.
15.
Танкер был «опечатан». На палубе краснофлотцы-автоматчики. На причале они же. Черные шинели, черные бушлаты, поперек – черные стволы АКМ.
Шла откачка топлива, доставленного «Юрмалой» в Североморск. Курить категорически запрещалось даже в отведенных прежде для этого местах. «Несанкционированное» передвижение членов экипажа во время разгрузки тоже не приветствовалось. Словом, «не высовывайся наружу – здоровее будешь» - превратилось из анекдота в правило поведения.
Мне оставалось бы лицезреть постную физиономию Ливика Генделиста до самого вечера, если... Но тут раздался стук в дверь, и Ливик весомо сказал:
- Войдите!
На пороге показался вестовой - мичман-сверхсрочник. В черной шинели, черной фуражке, с черной кобурой от «Макарова» на поясе.
Вспомнились стихи Есенина о черном человеке.
Моряк лихо вскинул руку к козырьку.
- Разрешите доложить. Машина подана.
- Оки-доки, ждите на причале. Сейчас будем, - барственно ответил с койки Ливик Генделист.
- Вы не один?
- Доложите командованию. Со мной паразит.
Я с недопониманием взглянул на мичмана.
Мичман с полным пониманием происходящего кивнул:
- Есть доложить, пропуск на двух человек.
- Не забудьте вписать в пропуск: «маэстро Ливий и личный его паразит».
- Так точно! Разрешите идти, товарищ маэстро?
- Свободны.
Мичман отдал честь, развернулся и был таков. Я же с новым интересом посмотрел на Ливика Генделиста. Как воспринимать подобное хамство? То он канает под Пушкина и пишет стихи, которым вредные критики выдергивают ручки и ножки на полпути к печатному станку. То превращается в боксера и вешает на уши доверчивых слушателей, что он уже перворазрядник и готов - пусть кровь из носа! - постоять за честь любимого судна. То, совсем уже не к месту, зная несколько гитарных аккордов, обзаводится прозвищем Раймонда Паулса «маэстро» и переименовывается из зарегистрированного в ЗАГСе Лива в римского патриция Ливия.
Не соскучишься.
- Ливик! Что за концерт? - обратился я к мастеру на все руки, когда он, нырнув под кровать, вытащил увесистую сумку с гитарой и торчащим над ней накрахмаленным колпаком повара из фешенебельного ресторана. - Куда ты собрался?
- Ты со мной разве не пойдешь?
- С тобой можно и на край света, хотя ты не женщина.
- Забудь французское – «ищите женщину»! Моя женщина… Пойми, я и сам в удрученном состоянии и трагедийных чувствах. Но актер, и при личной трагедии, должен соответствовать роли.
- Не подскажешь, какой?
- По договоренности, я им устраиваю оргию в порту.
- Что? Что? - обалдел я.
- А, испугался за моральный облик? Не пугайся. Лучше вернись на первый курс своего «универа» и навались на античную литературу.
- У меня по Гомеру пятерка. Уж кто-кто, а Лея Черфас за просто «хорошо живешь» пятак не поставит.
- Но то по Гомеру. Родственная душа! А по Вергилию? Апулею с его «Золотым ослом»? В Риме побывать слабо? Забыл? Оргия у римлян – это никакой тебе не свальный грех, а простая обжираловка. Дошло?
- Ладно тебе, Ливик. Уже уел меня!
- Ам-ам, вкусно нам! - Ливик повторил мою шутку и сделал вид, что облизнулся. - Соглашаешься быть моим паразитом?
Что за подвох? Я напряг память: что-то вспоминалось, но толком так ничего и не восстанавливалось.
- Оки-доки! Не мучайся. Вот тебе мой конспект. Хоть я и не ходил твоими коридорами по «универу», но знаю не меньше. - Ливик вытащил из сумки общую тетрадь в коленкоровом переплете. - Тут как раз все по кулинарной теме. Страница пять. Читай: имформ-бля-шка первый сорт!
Я прочел: «В Древней Греции любили устраивать обеды в складчину. Составлялись списки приглашенных в гости. Каждый из них имел право привести с собой кого-либо из приятелей, но только человека мужского пола. Вот этого, незваного распорядителями на пир, и называли - «парасит» - все остальные античные гости. (Не античные отдали дань современности и переименовали его на русский манер «паразитом».)
- Теперь понял, кем ты будешь на нашей оргии?
- Оргия и без баб?
- Раз-цвай-драй – бабы-выпивка-курение – все официально под запретом. Район взрывоопасный.
- А бабы при чем?
- При том! Бабы – мины замедленного действия.
- Тебе что за выгода во всей этой истории?
- Товарообмен! На уровне командовании! Я им - оргию-деликатес, они мне - два ящика тушенки. Вот и будут у нас макароны по-флотски. А то, сам видишь, борщ да борщ – кругом.
- Мы бросаем в свой животик все, что скушать хочется. У них - что? - некому сготовить макароны по-флотски?
- Опять – двадцать пять! Макаронами они объелись. Я же говорю, товарообмен! На уровне командования! Они нам - тушенку, я им - деликатес под видом древнеримской оргии. Любопытно, знаете ли, отведать то, что уже не подают к столу две тысячи лет.
- Что именно?
- Страница четвертая! Читай!
Я прочел: «В Древнем Риме существовало определенное представление о полноценном обеде с изобилием блюд. Назывался он – «Цена». Может быть, оттуда у легионеров и пошли строчки: «Мы за ценой не постоим». Состоял обед из закуски, основного угощения и десерта. Все в больших количествах. В качестве закуски подавали салат, яйца, рыбу под пикантным соусом. На второе - горячие блюда: мясо, курица, рыба, запеченная в тесте, различные морепродукты. В качестве десерта – печенье, соки. Но основное достоинство стола заключалось в умелом использовании приправ и пряностей, таких как - оливковое масло из Палестины, уксус, соль, перец, зелень майорана из Сицилии, семена аниса, укропа из Греции, тмин из Карии, сельдерей и петрушка из Македонии, тимьян из Фракии, имбирь и корица из Индии…»
- У тебя все это есть? - удивился я.
- Названия! И пакетики! - Ливик потряс сумкой, вызвав струнный перезвон, нахлабучил колпак, посмотрел в иллюминатор на «погоду». - Не замерзну, - пробормотал с некоторым удовлетворением и повернулся ко мне. – Собирайся, друг-человек и «парасит» впридачу. Время пошло.
По трапу мы спустились на причал, сели в военный газон: мичман впереди, рядом с водителем, я с Ливиком и его пахучей сумкой сзади.
- Полный вперед! - скомандовал мичман, и машина тронулась.
Через пять минут первая остановка. КПП. Шлагбаум. Матрос - черная шинель, черная ушанка, черный ствол автомата. Голос с хрипотцей:
- Спички, зажигалки есть?
Я сунулся в карман пальто.
- Вот, - сказал, недопонимая: курить запрещается, чего же он, без понятия?
Ситуация прояснилась без проволочек.
- Прошу отдать. На обратном пути заберете.
Отдал.
- Полный вперед! - скомандовал мичман, и поехали дальше по портовой улице, углубляясь внутрь территории, обставленной часовыми, как шахматная доска фигурками - в разгар игры.
Через пять минут вторая остановка. КПП. Шлагбаум. Матрос – черная шинель, черная ушанка, черный ствол автомата. Хлюпает носом, голос простуженный:
- Папиросы, сигареты есть?
Я вынул початую пачку «Элиты», протянул в окошко.
- Вот.
- Прошу отдать. На обратном пути заберете.
- А почему сразу не взяли, вместе со спичками? - завелся я.
- Здесь вопросы не задают, - пояснил мне матрос.
Глядя в его такие же голубые, как у меня глаза, я внезапно прочитал в них отгадку забавного кроссворда. Вся эта нелогичность и дикость, упакованная под грифом «совершенно секретно», расшифровывались очень просто. Тот, кто отобрал у меня спички, должен был оставаться без сигарет. Тот, кто отобрал у меня сигареты, должен был оставаться без спичек. Окажись сигареты и спички в одних руках, они поддадутся невольно вполне понятному соблазну и поднесут спичку к сигарете, тут и ахнет – вызывай пожарных! Впрочем, не уверен полностью, осенила ли меня истинная догадка. Умом ведь, как известно, Россию не понять, а уж распоряжения коменданта военно-морского порта тем более. Хорошо, что я не заядлый курильщик, и лишние два-три часа без сигареты мне не в тягость.
Два-три часа – вот тот срок, на который судовой кок Ливик Генделист переквалифицировался в маэстро Ливия. И следует сказать, это получилось у него превосходно. Полуметровый накрахмаленный колпак возвышал его над всеми людьми из приданной ему в подчинение поварской команды. Маленький Ливик был вровень с высокими по званию офицерами флота, собравшимися на оргию. Среди них - каперанг, два кавторанга, три капитан-лейтенанта и «наш» мичман. Разумеется, никто не представлялся. Так что ни фамилий, ни имен. Но скушано было!.. И с какой подачей! Маэстро Ливий организовал подачу блюд, как, наверное, это делалось в Кремле, в довоенную пору, когда Хрущев под дирижерскую палочку товарища Сталина отплясывал гопак на паркетной плитке, выложенной при царе Иване Грозном.
Вынося во главе белых фартуков и колпаков Верховное блюдо на праздничное застолье, Ливик с оглядкой на мое чувство юмора, несколько подпорченное обилием черных, как столовый перец, кителей, провозгласил:
- Кушанье римских легионеров подано к столетию со дня рождения Ленина!
- В какое время жуем! - воскликнул мичман и, встав по стойке «смирно», отдал честь главнокомандующему поварской бригады.
Тут я чуть было не упал в обморок от нокаутирующего удара смеха, идущего изнутри куда-то к горлу и способного угробить тяжеловеса, не только меня. Однако любопытство пересилило смех. И я удержался на ногах, присматриваясь к деликатесному изобилию, атакующему мой нос изысканными ароматами.
Такого количества разнообразной еды я в жизни не видел. Как говорится. случается и на нашей улице... чуть не сказал, праздник… А ведь следовало. Почему? Ливик, оказывается, подготовил и для меня тайное подношение. Я и не догадывался, что в заключение этого пиршества меня ждет сюрприз. Дело в том, что давние римские оргии заканчивались песнопениями. Заглавную песню импровизированного концерта исполнял не кто-нибудь, а шеф-повар. Кулинара-солиста награждали аплодисментами, если обед пришелся всем по душе, но могли забросать его и мочеными яблоками, окажись несъедобным какое-либо кушанье из очередной подачи. В случае с Ливиком Генделистом все было на мази. Людей покормил, киселем напоил, настало время и музицировать: уши меломанов в черных мундирах уже развешаны.
Тут-то и раскрылись увесистая сумка, и на свет Божий была извлечена гитара.
Ливик уселся на табуретку, заложил ногу на ногу, провел пальцами по струнам.
- Оки-доки. В прошлый раз вы просили меня подыскать в маленьком Париже, то бишь у нас Риге, что-то из самого современного репертуара. Самое, что ни на есть нашенское, с юморком и перчиком…
- Чтобы чертям было жарко, - донеслось с отрыжкой из-за стола.
- И американцам тошно!
- Так тошно! - подхватил, хитро улыбаясь Ливик. - Американцам – тошно, а нам с перчиком. Но начну с анекдота, для настроения.
- Про американцев?
- И про них. Из мира животных. Но по моей кулинарной части.
- Заводи пластинку! - раздался командирский голос.
- Из Чарльза Дарвина известно, что жена богомола по окончанию сексуального акта откусывает голову у своего бесшабашного муженька.
- Чтобы по чужим бабам не ползал! - хохотнули сытые люди.
Придержав смех ладонью, Ливик продолжил:
- Однажды сынок богомол спрашивает у любимой своей мамочки: «А каким был мой папа?».
- Вкусным! - взлетела под потолок отгадка.
- Правильно... «Вкусным!» - ответила мама.
- Песня, значится, тоже на эту тему?
- Не совсем. Но с намеком. Слова, - Ливик посмотрел на меня, - не мои, но исконно рижские, музыка народная. Исполняется впервые, специально для вас.
Я сразу же уловил мелодию: ну, конечно, сейчас прозвучит одна из моих хулиганских песенок, распеваемых в пивных барах на рижском взморье.
Она и прозвучала:
- Ты пристала ко мне крепче триппера.
И теперь я хожу как больной.
Ты меня без остатка выпила,
Закусив коньячной звездой.
Весь губами твоими иссосанный,
Стал похож на бродячий скелет.
Под тобою, кустами и соснами
Похоронен во цвете я лет.
Ты пристала ко мне крепче триппера.
Ты сжигаешь меня, как напалм.
Для тебя я посылочку выберу
И отправлю тебя во Вьетнам.
Пусть там помощь мою безвозмездную
Примут радостно и любя.
И затем, как оружие местное,
Против янки направят тебя.
16.
Опять мы в открытом море. Тихое урчание двигателя, подрагивание переборок, плеск волн. Я еще не поднялся с койки. Сонливое состояние не отпускает. Хочется еще разок потянуться, зевнуть раз-другой. Но стук в дверь, и высовывайся из-под одеяла, поспешно влезай в пиджак, брюки, туфли…
- Кто там?
- Вестовой. Разрешите войти?
- Входите, не заперто.
В каюту вошел парень приблизительно моего роста, но шире в плечах и корпусе.
- Вам пакет.
- От кого?- недоуменно спросил я.
- Первый помощник капитана распорядился.
- По какому случаю?
- В Североморске нас догнала почта. А там журнал с вашей статьей.
- Какой журнал?
- Московский. «Вымпел». Три штуки. Вот Яков Иванович и распорядился. Один в кают-компанию, один в судовую библиотеку и один вам – лично в руки.
- Расписаться? - насмешливо поинтересовался я.
- Расписки не требуется. У нас все на полном доверии.
- Тогда гуляйте!
Вестовой - по выправке чувствовалось, что он недавно из армии - козырнул мне двумя пальцами. Но не покинул каюту.
- Разрешите вопрос.
- Спрашивайте.
- Я слышал, вы набираете команду боксеров.
- А вы – что? Боксировали?
- Первый полусредний вес. Третий призер первенства города Балтийска.
- Когда?
- Год назад, когда служил там на флоте.
- Земеля, значит...
- То есть?
- Калининградская область. Вы в Балтийске. Я в Калининграде. Между нами даже матчевые встречи проходили. Пилотки против бескозырок. Но что-то вас не припомню.
- Опоздал родиться.
- Что?
- Просто позже призывался. А вообще я приметный. У меня такая конфигурация в имени – отчестве – фамилии, что любой приметит и запомнит.
- А ну?
- Константин Григорьевич Бровиков.
- И что?
- А то! В итоге по первоначальным буквам - КаГеБе.
- Боятся?
- На судейскую коллегию действует. Опасаются засудить.
- И как же вы им свои опознавательные знаки выкладываете?
- На взвешивании, при предъявлении паспорта. Не засудят и здесь. Моржовый край, а понятия столичные.
- Поспарринговать не хотите?
- Это можно. У меня и перчатки имеются.
- А где? - я оглядел каюту, поморщился.
- Здесь тесно, - согласно кивнул матрос. - Но я слышал, что вы вызвались на мойку танка, то есть трюма. Там просторно.
- А не надышимся?
- Да нет! Все топливо перекачали, помещение проветрили. Войлочного покрытия, правда, нет, но пол в самый раз, если без нокаута. И перчатки у меня есть.
- Хорошо.
Вестовой еще раз козырнул и выскочил за дверь. Я вернулся к койке, присел у тумбочки, к ночнику. С любопытством раскрыл морской журнал, который догонял меня в различных портах Латвии и России. Зеленая обложка, справа внизу изображен океанский лайнер с красным флагом, поднятым над ним подобием паруса. На белом поле вверху двухсантиметровыми черными буквами выведено «ВЫМПЕЛ». На развороте читаем «орган министерства морского флота СССР», «№8».
Содержание:
Д. Гашумов. Трудовая поступь каспийцев.
М. Гладышев. Под флагом дружбы.
А. Варзегов. Будни «Оренбурга».
Г. Ястребцов. Достойно представлять родину.
В. Сысоев. Несколько дней в Одесской мореходке.
Е. Гаммер. Успешные старты.
Само собой, мое внимание привлекла собственная заметка. Как сверстали, как выдали на полосу? Что пропустили в печать, что зарезали? Год ведь какой? Юбилейный! О чем ни пишешь, везде упоминай об этом. Не упомянешь, самостоятельно вставят строчку о столетии со дня рождения Ленина. Цензура свирепствует. Крамолу найдет и там, где ее не было.
Посмотрим, что оставили нам для чтения бесы из Главлита?
Перечисление фамилий оставили, а это героям моих газетных произведений больше всего и нужно. Иначе они не станут соваться носом в печатную продукцию, о которой в народе говорили так: «утром в газете, вечером в туалете». Да и как ее пошлешь родителям, без фамилий? И девушке не подаришь. А с фамилиями… С фамилиями эти журналы расходились огромными тиражами по всему Союзу, хотя и не попадали в свободную печать. Во всяком случае, «Вымпел» я не встречал в киосках тех морских городов, куда приводили меня журналистские дороги. Тем приятней было получить его тут, на судне, где сейчас, в данный момент, некоторые моряки выискивают в нем свои позывные. И выищут. Уж что-что, а с фамилиями у меня – щедро.
УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ
Моряки Латвийского пароходства в дружбе со спортом. Это они убедительно доказывают в товарищеских встречах по футболу, волейболу, баскетболу с советскими и зарубежными коллегами, на гаревых дорожках стадионов, в соревнованиях теннисистов.
Экипажи судов Латвийского пароходства приняли участие в Международной спортивной неделе моряков – 70, проходящей во многих портах мира. На их счету немало побед. Золотую медаль завоевал курсант Рижского мореходного училища В. Альчин в толкании ядра. Бронзовым призером стал штурман танкера «Юрмала» Стас Карасик.
(Вот это да! В Москве таки оставили без изменения: «в Международной спортивной неделе моряков – 70». Не приписали самовольно: «приуроченной к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Может быть, по той причине, что автор – из Риги, по фамилии, вполне возможно, латыш или немец – полуиностранец какой. Ну, а что дальше? Читаем? Читаем!)
В розыгрыше Кубка Балтики команда теплохода «Энгуре» заняла второе место. Экипаж «Энгуре» первым из советских моряков добился такого успеха в этих соревнованиях. Из Гданьска от руководителей комитета Кубка Балтики на теплоход пришло письмо: «В течение ряда лет, - писали польские друзья, - мы наблюдали за ростом ваших спортивных достижений, радовались вашим удачам в труде и спорте. Поздравляем вас с победой и желаем первого места в спортивном сезоне наступившего года».
По инициативе первого помощника капитана В. Барютина футболисты «Энгуре» в каждом зарубежном порту проводят товарищеские встречи с докерами и моряками других судов. Боцман Е. Суворов, третий помощник капитана В. Щербук, старпом В. Пучков, моторист П. Чепелянский, токарь В. Мухин – основные бомбардиры команды. Не менее результативны и их основные соперники с танкера «Юрмала» - штурман Стас Карасик, боцман Андрей Распашкин, матрос Константин Бровиков, токарь Владимир Котлов, которые тоже мечтают о завоевании Кубка Балтики.
Впереди у энгуровцев и юрмалчан новые соревнования на кубок Балтики. И хочется пожелать им, как и всем нашим морякам-спортсменам, еще более успешных стартов.
Е. Гаммер
г. Рига
17.
Журналиста кормят ноги. Это присловье кочует со мной по жизни. Куда я, туда и оно.
Рига - Таллин - Одесса - Севастополь - Калининград - Москва - Ленинград - Мурманск - Новосибирск - Иркутск – Киренск...
Казалось бы, здесь, в море, когда вместо тебя по воде «ходит» судно, можно ноги поберечь. Но – отнюдь. И здесь тебе надо обегать все, обойти от киля до клотика, чтобы не называться, а быть «морским журналистом». Вот и вызвался я на мойку танка – трюмной цистерны. Но не предполагал, что ждет меня погружение по предательски скользкой металлической лестнице-стремянке, приклепанной с внутренней стороны борта, на глубину ого-го какую – дна не увидишь. Однако вызвался – иди. И пошел. Сначала по палубе к люку, затем, под напутствие боцмана Распашкина, под люк, и со всей осторожностью в тартарары: с перекладины на перекладину.
Вниз не гляжу, чтобы не подхватить головокружение и не сверзиться прямиком на дно. Гляжу на небо, солнышком привечаемое. А оно все удаляется и удаляется, как при погружении под воду. И мало-помалу превращается в своеобразный лунный диск голубого отлива. А в центре… В центре этого диска другой диск, ниже его еще один, в два раза меньше в диаметре. И переливаются - гады! - перламутровым огнем, будто подрядились путь освещать в потайное чрево танкера. Что за наваждение? Опять летающие тарелки? Не могли бы для прогулок, твари эти небесные, подальше выбрать закоулок? А то ведь мозгов не хватит на разборки с ними. Плюнуть бы, и с глаз долой. Но не доплюнешь, и глаза опустить боязно.
Смотреть вниз – накличешь головокружение, смотреть вверх – напросишься на незапланированный контакт с неземной жизнью. А при шатком равновесии, между небом и железным днищем судна, собственная жизнь тебе кажется намного важнее неземной. Пусть уж простят меня братья по разуму, но это святая правда, что бы ни утверждали башковитые наши ученые - исследователи Вселенной. Вселенная бесконечна, и, пожалуйста, исследуйте ее до бесконечности долго. А жизнь одна, от зарплаты до зарплаты, и прожить на нее надо так, чтобы не было мучительно горько с похмелья.
Мне и не будет. Прежде всего, у меня не бывает похмелья. А второе, стыдиться некогда, надо отбрехиваться.
- Видели? - подбежал ко мне с вопросом и ведром, полным ветоши, Костя Бровиков, когда я ступил… чуть не сказал – «на землю». Нет, не «на землю», на дно, или днище, если искать более правильный эквивалент. Богат русский язык, но и ему подчас не справиться с наворотами смыслов.
- Что? - воззрился я на матроса с недоумением.
- Летающие тарелки!
- Костя, я смотрел себе под ноги, чтобы не сверзиться с верхотуры. Какие тарелки?
- В лючине, прямо над головой торчали.
- Ну, ты даешь, шустряк! - я машинально перешел на «ты», как это обычно бывает, когда разговариваешь с младшим по возрасту. - Прямо как в песне из кинофильма «Небесный тихоход» - с Крючковым и Меркурьевым. «Нам сверху видно все, ты так и знай!»
Костя тоже автоматически переключился на доверительное «ты».
- Им, поверь мне, Там все видно. Присматривают за нами.
- За мной следить нечего, Костя. Даже с неба. Я чист перед судьбой и законом.
- Не нашими письменами их законы пишутся. Да, и справа налево, как у этих…
- Откуда наворотил?
- Поговаривают... В Амдерме, говорят, табличка с неба упала. А на ней не нашими письменами что-то вытравлено. И в обратную сторону – справа налево.
- Читают?
- Пробуют.
- Слава Богу, мне хватает и русского правописания.
- И с нашим правописанием можно верить в их Бога. А ты веришь?
- В народе говорят: «Все под Богом ходим».
Я помнил наставления Стасика Карасика. И знал: на судне негласный запрет на упоминание об НЛО. Видел – не видел, это остается с тобой навечно, и не доходит до чужого уха. Одно дело поговорить с судовым врачом, другое с человеком, выставляющим напоказ, словно предупредительный знак, дикую для загранщика кликуху: «КаГеБе». В этом заложена определенная двусмысленность: то ли тем самым Костя говорит: «опасайтесь меня, не откровеничайте», то ли: «будете выпендриваться, загоню к белым медведям!» Но лучше не разбираться в психологии, а сразу приступать к мордобитию.
- Костя, а где перчатки?
- Тут! - парень потряс ведром, которое держал в руке, и вытащил из-под ветоши две пары «кожаных рукавиц». - Десятиунцовые, для первых весовых категорий.
Я помял перчатку в руке. Чувствовалось, что она была уже «разбитой». Лупили ею, видать, по переборкам, так как тренировочного мешка на танкере не наблюдалось.
- Разомнемся? – предложил я.
- Шнуруй!
Костя сделал шаг назад, натянул перчатки. По его примеру я запихал шнуровку вовнутрь, постучал «рукавичками» друг о друга. Сверху за нами, находящимися в поле светового круга, наблюдал боцман Андрей Распашкин.
- Эй, авральщики! - крикнул он, просунув вихрастую голову в люк. - Время засекать?
- Включай хронометр! - откликнулся я, и двинулся в бой.
Левой-левой, уклон. Скользящим шагом в сторону. Нырок, еще нырок. Так и есть! Коренастый Костя, ростом не намного выше меня, бедра по ширине вровень с разворотом плеч, бомбил кулаками размашисто, оставляя неприкрытым живот и, главное, челюсть. При умелой «разборке» справиться с ним не сложно. Пару обманных финтов, нырок под левую руку, и боковым ударом по скуле. Дальше работа для рефери на ринге - считать секунды: «раз, два, три, четыре». Но мелькнувшее в мозгах «распознание» я держал при себе. Ведь нужно было «не пробить» противника, а проверить его на пригодность выхода на состязание. По сути, для встречи с амдермовцами Костя годился. Не слабак, дыхалка в норме, отваги тоже не занимать. Интересно, что же подвигло Стасика Карасика на отказ от включения его в нашу могучую сборную?
- Гонг! - послышалось сверху. - Конец первому раунду.
Костя задрал голову.
- Андрей! Какой счет даешь?
- Товарищеская ничья.
- Ничья – для кого равна и победе! Он же мастер спорта!
- А ты мастер швартовки! - засмеялся боцман Распашкин. - Займитесь делом.
- Да, - вспомнил я, зачем пожаловал сюда. - Давай поработаем, а то напросился, и дурака валяю.
Мы прошли в дальний конец пустой подпалубной цистерны. По краю узким ручейком текла маслянистого оттенка вода. Ее предстояло собрать в ведро и насухо протереть ветошью дно. По моим представлениям, все это выглядело не серьезно. Мойка произведена, все убрано и почищено. Для чего же я здесь? Только лишь потому, что вызвался? Может быть, и так. Вызвался – уважили. «Хотел посмотреть на морскую жизнь без прикрас, вот и смотри, журналист, делай выводы!». Какие выводы? А на что голова? Думай, чувак!
До чего-то конкретного я додуматься не мог. И не додумался бы самостоятельно, если ни известие, полученное мной по возращению в Ригу от редактора «Латвийского моряка» Якова Семеновича Мотеля. Он сказал: «Ты знаешь, тебе объявлена благодарность! На моей памяти это впервые, чтобы капитан судна объявлял по радио на весь флот благодарность корреспонденту газеты… То, что ты вызвался мыть танки – это так себе… это официальное прикрытие для изъявления скрытых чувств. Было что-то еще неофициальное… Не скажешь ли, что?» И я сказал – «что», вспомнив об истории в мурманском ресторане-стекляшке, когда заставил арктического антисемита, «из тех, кто мерит мили на километры», подавиться собственным оскорбительным высказыванием – «Еврей – моряк!».
Наполнив ведро собранной при помощи ветоши водой, мы с Костей задумались: а не провести ли нам второй раунд?
- Как ты? Готов?
- Всегда готов! - охотно отозвался крепыш-полусредневес. - Если партия прикажет, комсомол ответит…
- Да… ты боевой парень!
- В подплаве служил!
- Оно и видно.
- Тогда шнуруем перчатки.
Я опять затолкал кулаки в «кожаные варежки». И глядя, как Костя зубами натягивает закраину перчатки, спросил его:
- А почему Стас не вставил тебя в список команды?
- Не знаю. Он третий помощник капитана, не я. Это к боцману я могу с расспросами… А к нему – «слушаюсь-повинуюсь».
- Странно.
- И мне странно. Пришел я к нему, значит, записываться. В зубах зачетная книжка спортсмена второго разряда и свежий анекдот, чтобы, как говорится, пристроиться к нему в кильватер.
- И что? Не пристроился?
- Он сказал, что второй разряд – это мало.
- Мало?
- Так сказал.
- Сказал до анекдота или после?
- Опосля.
Я насторожился, чуя какую-то подлянку.
Стасика я знал, как облупленного: в парне никакого высокомерия, и к спортивным разрядам отношение плевое - в бою покажи себя, а не нарисованные в зачетке цифирки!
- Что за анекдот?
- Да ходовой, как «Армянское радио». Из серии «Еврей-боксер».
- А ну, расскажи!
- Пришел еврей в боксерскую секцию
«Кому надо заплатить, чтобы стать боксером?»
«Платить не надо, - отвечает тренер. - Надевай перчатки и выходи на ринг драться».
«А это больно?»
«Больно. Но зато станешь боксером».
«Нет, уж лучше я запишусь в шахматисты».
Я усмехнулся, продемонстрировав Косте ожидаемую им реакцию. На самом деле, мне смешно было не от тупого, как валенок, анекдота. От совершенно другого. Меня, если я лично не намекал на свое еврейское происхождение, все принимали либо за латыша, либо за немца, а когда не называл фамилию, то и за русского. Глаза голубые, волосы русые, боксер, журналист, говорун - свой человек в кампании. Вот и сейчас та же ситуация. Но разрешалась она просто, совсем не теми методами, как с капитаном-антисемитом в ресторане. Я был в боксерских перчатках, и он в боксерских перчатках. И, как говорится, ринг покажет: кто есть кто.
- Засекай время! - крикнул я боцману Распашкину, выходя в освещенный солнцем круг.
- Гонг! Раунд второй! - раздалось из-под неба.
И я пошел в бой. Левой-левой, правой по корпусу. Выход в стойку, отход. Финт плечом, нырок под руку. И с выходом правым боковым по левой скуле. Раз!
Добавки не понадобилось. У Кости подкосились ноги. Я едва успел подхватить охотника до анекдотов, иначе шмякнется и разобьет голову накануне соревнований.
- Что это было? - спросил он, опомнившись.
- Ты просто удар пропустил, - ласково заметил я. - С кем не бывает.
- Но мы же договаривались – без нокаутов.
- Верно, Костя Бровиков! А вот о нокдаунах мы не договаривались. Ты, часом, шахматами не интересуешься?
- Не-а, - покрутил головой, проверяя шейные позвонки. - Я и не заметил... Как это ты меня засадил?
- По-еврейски: справа - налево!
XXI век. Ассоциация восьмая:
ЛЕГЕНДЫ БОКСЕРСКОГО РИНГА
И вновь я возвращаюсь к профессиональному боксу прошлого, чтобы вместе с вами совершить исторический экскурс по «еврейскому рингу».
Итак, гонг. И начинается первый раунд отсчета имен.
Натания.
Институт физкультуры имени Вингейта.
Международный зал славы еврейского спорта.
Здесь среди лучших боксеров Англии 18-19 веков представлены: тяжеловес «Голландец Сэм», настоящее имя Сэмюэль Эллиас (1775-1816), его сын – «Молодой Голландец Сэм» (1808-1843), который в двадцатых-тридцатых годах был чемпионом мира в полусреднем весе и – что поразительно! – не проиграл ни одного боя в жизни. В подверстку к семейной компании «Голландцев» достойно впечатывается и «Звезда Востока» - Барни Аарон (1800 – 1850), сильнейший легковес мира на протяжении 15 лет, с 1819 по 1834 год.
Гонг. Раунд второй.
Перенесемся в Соединенные штаты Америки.
«Великий Эйб», или Абрахам Вашингтон Аттел (1884-1970), считался «абсолютно лучшим боксером всех времен, независимо от весовой категории». Он выступал в полулегком весе, был чемпионом мира в 1901-1904 и 1906-1912 годах. Провел 165 боев, из них в 92 победил, в 51 - нокаутом.
«Человек-Ножницы» - прозвище другого американского чемпиона еврейского происхождения, уроженца Чикаго, Гарри Харриса (1880-1959), являвшегося первой перчаткой мира в легчайшем весе в 1901 году. Затем его титул переходил в легчайшей весовой категории, как по наследству, от одного еврея к другому. В двадцатые годы это были Эйб Гольдштейн и Чарли Розенберг, в пятидесятые Роббер Коэн и Альфонс Халими.
В 1914 году Эл Мак-Кой, по документам Александр Рудольф (1894 - 1996), первый в мире левша на ринге, нокаутировал в самом начале схватки Джорджа Чипа и стал на последующие три года непобедимым для всех претендентов на престол чемпиона мира.
Невероятных достижений на ринге добился выходец из Англии Гершон Менделофф, по прозвищу «Малыш», (1894 – 1970). Он выступал в шести весовых категориях, что по сути своей непостижимо. В 1915 году Гершон впервые примерил лавровый венок чемпиона мира - тогда во втором полусреднем весе. С тех пор, увеличиваясь в габаритах и переходя из одной весовой категории в другую, он оставался при мнении, что лавровый венок все еще ему впору. И это мнение жестко отстаивал на сером квадрате ринга. Всего же он провел 283 боя, одержал 215 побед, из них 71 нокаутом. Позавидуешь такому послужному списку!
В 1916 чемпионом мира в полутяжелом весе провозглашается Барни Лебрович, известный в кругах болельщиков под именем Бэттлинг Левински, или по прозвищу «Драчун» (1891 - 1949). Четыре года подряд он удерживал звание сильнейшего полутяжеловеса в мире, никому не давая спуску на ринге. Провел 287 боев, выиграл в 192 из них.
В 1917 году королем ринга в легком весе становится несравненный Бенни Леонард – Бенджамен Лейнер (1896 – 1947). Гроссмейсер и кудесник бокса, технарь и нокаутер. Он ушел из спорта непобежденным, 14 раз в течение восьми лет успешно защищал свой чемпионский титул. На счету Бенни Леонарда 213 боев, 180 побед, из них 70 нокаутом. При этом, как некий парадокс, надо отметить: он происходил из ортодоксальной религиозной еврейской семьи и никогда не выходил на ринг по субботам и праздникам.
Еще одним легендарным американским боксером был и Макс Бэр (1909 – 1959), абсолютный чемпион мира в 1934-1935 годах. Он обладал невероятной силой удара. И это привело к тому, что в 1930 году Макс убил кулаком на ринге Френки Кэмпбелла.
И снова гонг. Раунд третий.
Еврейские боксеры блистали не только на профессиональном, но и на любительском ринге.
На олимпиаде в Антверпене 1920 года золотую медаль получает американский легковес Сэмюэль Мосберг, а через четыре года в Париже - полулегковес Джеки Филдс, тоже из команды США. Ну, а самую первую «еврейскую» золотую медаль олимпийского достоинства завоевал еще на заре двадцатого века в 1904 году американский тяжеловес Сэмюль Бергер.
Исторический экскурс можно продлить до наших дней. Тем более, что на американском профессиональном ринге появился новый выдающийся еврейский боксер Роман Гринберг, бывший израильтянин, выходец из России.
Впереди у него, как считают специалисты, большое будущее.
Но зачем забегать вперед?
Я остаюсь верным давнему боксерскому присловью – «Ринг покажет».
А ринг временами показывает настоящие чудеса.
Удивительное дело, но и в боксе, как выяснилось, регистрируются всевозможные рекорды. Нужно потратить немалый кусок жизни, чтобы собрать их воедино. Это сделал Эли Люксембург, израильский писатель, историк спорта, боксер и тренер международного класса.
«Классификация боксерских рекордов проста, - говорил мне Эли в иерусалимском клубе «Маккаби», где я тренируюсь до сих пор у него и его младшего брата Гершона-Гриши, тоже великолепного в прошлом боксера, а ныне тренера и барда. - Первое – это долгожительство на ринге. Затем – скоротечность боя, количество побед или завоеванных званий чемпиона. Вот посмотри, об этом я и написал статью».
Эли Люксембург,
тренер по боксу
Из статьи «РЕКОРДЫ И РЕКОРДСМЕНЫ МИРОВОГО БОКСА»
(израильская газета «Вести», вторник 27. 11. 2001)
Легендарный Джо Луис дольше всех удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе – 11 лет и 252 дня. То есть с 22 июня 1937 года по 1 марта 1949-го. Его настоящее имя Барроу Джозеф Луис. С раннего возраста к нему пристала кличка Коричневый бомбардир. Начал он свою карьеру в 16 лет. На любительском ринге Джо Луис провел 58 боев, из которых проиграл только 4, а все остальные выиграл нокаутом.
Меньше всех властвовал на чемпионском троне американец Кен Нортон – 83 дня. Его результат в точности повторил Джеймс Смит по кличке Костолом. Он удерживал звание чемпиона мира те же 83 дня и был побит по очкам.
Боб Фитцсимонс выходил на поединки за звание чемпиона мира в течение 31 года, с 1883 по 1914, и выиграл звание чемпиона в последний раз 20 января 1905 года в возрасте 43 лет.
Самый продолжительный поединок без перчаток (в эпоху, когда боксировали голыми кулаками) длился 6 часов и 15 минут – бой между Джейсом Келли и Джеком Смитом. Было это в Австралии 3 декабря 1855 года. Самый же долгий бой в перчатках состоялся 6 апреля 1893 года. Энди Боуин и Джек Берк начали поединок в 9 часов вечера и закончили в 3 часа 34 минуты утра. Бой длился 7 часов и 19 минут. Это был бой продолжительностью в 110 раундов. Надо заметить, что в ту пору раунды не имели временного ограничения. Заканчивался раунд при падении одного из боксеров, после чего участников разводили (или растаскивали) по углам. Рекордный бой Боуина и Берка закончился ничейным результатом.
Самый короткий бой за титул чемпиона мира состоялся 6 апреля 1900 года, когда Джеймс Джеферис послал Джеймса Финнегена в глубокий нокаут через 55 секунд после первого удара гонга.
А самый быстрый нокаут был зафиксирован в Лондоне на турнире профессионалов в Национальном спортивном клубе 20 февраля 1922 года. Тогда Джек Кейн нокаутировал Гарри Диммера за 11 секунд, включая те 10 секунд, которые отсчитывал упавшему на пол Диммеру рефери на ринге.
Этот же рекорд – в одну лишь секунду от удара гонга – повторил Хью Келли, нокаутировавший Стива Кулда в Глазго 14 апреля 1984 года.
Рекорд долгожительства среди чемпионов мира принадлежит Джеку Демпси. Умер прославленный боксер в 1983 году в возрасте 88 лет. Настоящее имя его Келли Джон. Это был первый чемпион мира в среднем весе. Титул чемпиона он удерживал 8 лет подряд.
Есть уникальные достижения и в истории советско-российского бокса.
Боксер-тяжеловес Николай Королев является 13-кратным чемпионом СССР, 4 раза он завоевывал звание абсолютного чемпиона страны (1936-1945) и 9 раз владел званием чемпиона страны в тяжелом весе (1936-1949). Королев провел на ринге 204 боя, 180 из которых выиграл, причем 50 – нокаутом. Его тренером был А. Харлампиев, один из первых российских боксеров-тяжеловесов.
Единственным в своем роде и по сей день никем не побитым является рекорд Сергея Щербакова: с 1944 по 1953 год он неизменно завоевывал звание чемпиона СССР в одной и той же полусредней категории. Одновременно он является и обладателем двух «международных» серебряных медалей – Олимпийских игр в Хельсинки в 1952 году и чемпионата мира в Варшаве в 1953 году. Сергей Щербаков провел на ринге 227 боев, в 207 из которых одержал победу.
18.
В каюте я застал Янат. Она сидела на моей койке, у ночника, держа на коленях какую-то книгу.
- Привет, - сказал я.
- Привет.
- Ливик на камбузе.
- Знаю.
- Так вы, получается, ко мне?
- К вам. С благодарностью.
- Да ну? – удивился я.
- Ливик передал мне ваши стихи.
- Акростихи, - поправил я. - В них сверху вниз, из первых букв каждой строки, складывается ваше имя.
- Знаю. - Янат поднялась с койки, вынула из книги листок бумаги с моим произведением несколько пародийного характера. - Подпишите?
- Вы собираете автографы?
- Вот подпишитесь, и начну собирать коллекцию. Вы будете первым.
- Что ж, - я взял протянутую книгу, не посмотрев на заглавие, наложил сверху листок, и подписался. - Скажу вам по секрету, Янат, для меня это тоже первый автограф в жизни.
- Вот и хорошо. Под такими стихами не грех и подписаться.
И она, к полнейшей моей неожиданности, прочитала по памяти:
«Я в поздний час вас встретил на причале.
Ночь. Ресторан. Фонарь дымит свечой.
Ассолью вас хотел назвать вначале,
Таинственною Гриновской мечтой.
Теперь мне ведомо, Янат вы и Татьяна.
Астральной чайкою парите под луной.
Навечно ваш! В каких бы ни был странах,
Я с вами мысленно, вы мысленно со мной».
- Браво! - похлопал я в ладоши. - Да вы прирожденная чтица!
Янат немного смутилась, но быстро нашлась.
- Не чтица, а артистка нашей художественной самодеятельности.
- И много здесь таких хорошеньких артисток?
- Я в единственном экземпляре.
- То-то, куда не сунусь, все вы и вы! В море, на суше, и в космосе.
- Про космос не будем, ладно? - с какой-то горечью попросила меня Янат. - И про визит к врачу… хорошо?
- Забыто и похоронено. Вы с Ливиком объединены на все прожитые жизни. И на те, что ожидают вас в будущем.
- Ливик в курсе про визит к врачу, - зардевшись, поспешила меня заверить Янат. - Но и при нем не надо…
- Ни в коем случае! Я ведь уяснил: это для Ливика вы в единственном экземпляре. Не для меня, понятно. Мой экземпляр в Риге. Галка.
- Но к вам я не одна, - попыталась улыбнуться Янат.
Изображая недоумение, я посмотрел по сторонам:
- Где вторая?
- Нет, вы меня неправильно поняли. Я с презентом. С книгой. За границей купила. Все покупают шмотки, а я купила книгу. «Ценная!», - говорят понимающие люди.
Я взглянул на обложку. Ну, конечно! Очень редкую книгу дарила мне Янат. Книгу, которую можно было достать только у библиофилов, причем за большие деньги. Книгу, которую, несмотря уже на «Хрущевскую оттепель» отказался печатать журнал «Новый мир». Книгу Константина Паустовского «Время больших ожиданий».
С некоторой растерянностью, позабыв даже о дежурном «спасибо», я начал ее перелистывать, помня, что где-то, на какой-то странице, в воспоминаниях о Бабеле, есть слова, полностью соответствующие моему сегодняшнему, после поединка с Костей Бровиковым душевному состоянию. А вот и они…
«Я не выбирал себе национальности, - неожиданно сказал Бабель прерывающимся голосом, - я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом». Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится, и у него перестанут дрожать руки. «Еще в детстве, во время еврейского погрома, я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?..»
- Зачем? - я поднял глаза от книги. И увидел, что произнес это слово в пустоту.
Янат, не мешая мне читать, тихонько вышла из каюты.
19.
- Амдерма! Амдерма!
Вот и выплыла ты, Амдерма, из-за горизонта. Первый слог - «ам», последний слог, прочитай его справа налево, - «ам».
Ам-ам, вкусно нам!
Вкусно и на слух приятно. Звучит «ам», звучит, и никто из тех, кто на ухо тугой, не догадывается: закодировано звучит для меня в этом легковесном слоге старинное еврейское слово – «народ». Слева направо читай – «народ», справа налево читай – «народ». Вечное слово, вечный народ...
Но – молчок! Сам понимай, недругу не разглашай. Разнесут – донесут, а меня по всяким инстанциям затаскают: что за вымыслы? что за домыслы?
А что в том слоге зазорного? То, что в крохотном слоге – целое слово? Слово? Слово! Но ведь какое? Привечаемое у нас слово - народ! Только - вот беда - не на том языке, на запрещенном для изучения, на преследуемом с тридцатых годов..
Ам-ам, вкусно нам! Запретный плод всегда сладок.
Хорошо, пусть мои нехитрые умозаключение – пустой звук. И то, что тайно звучит для меня, не имеет под собой никакой конкретики. Хорошо, пусть все это фантазии! Но фантазии, подчас, более верно ведут по жизненным лабиринтам, в особенности в творчестве, чем советы опытных, поднаторевших во всем наставников. Да и есть ли они ныне, в семидесятом, наставники? Какие из них, детей двадцатого века, наставники, когда глаза зашторены, самостоятельного мышления с гулькин нос, а головы скручены вправо: «на грудь четвертого равняйсь!». Чего скрывать, мозги нескольких поколений людей загублены. Спроси у нашего человека: «зачем нужна жизнь?» Ответит: «чтобы строить лучшую жизнь!». Жизнь нужна, получается для того, чтобы строить лучшую жизнь. А жить когда? Просто жить?
Я жить хочу, граждане-люди! Мечтать хочу и фантазировать! Видеть в небе хочу летающие тарелки и говорить об увиденном, не боясь, что закроют мне рот, либо потащат к психиатру из следственного отделения. Изыскивать хочу в забавном «ам-ам» какие-то загадочные совпадения и без опаски делиться лингвистическими находками с друзьями-приятелями. Читать хочу - слева направо, справа налево, хоть по диагонали. Я много чего хочу...
Но, прежде всего… сейчас… хочу в Амдерму!
Ам-ам, вкусно нам!
«Ам!» - какое древнее незабываемое слово. А вот и посланцы этого вечного слова. Гляди, уже пыхтят по морской глади: два буксира с «плакшоутами» - плоскими цистернами, наполовину погруженными в воду. Значит, предстоит разгружаться на рейде. А в город? В город - ам-ам! - смотаемся на обратной ходке буксиров. С этим у нас не заржавеет, только бы приодеться.
Через полчаса я был наряжен по последней рижской моде. Черный костюм с искрой. Галстук в бело-голубых ромбиках, отглаженная сорочка, серебристый значок члена Союза журналистов СССР на лацкане пиджака. Свое телесное великолепие упаковал в просторное Борькино пальто и спустился по шторм-трапу на древний, пыхтящий трубой буксир. Командир этой достопримечательности из лавки старьевщика приветствовал каждого, ступившего к нему на борт аптечной мензуркой с довольно прозрачной жидкостью.
- Даем отвальную гастроль!
И наливал – наливал. Не из бутылки. Из закопченного кофейника. Вероятно, чтобы с мостика не разглядели, что нарушает «сухой закон».
- Праздник какой? - полюбопытствовал я у великого маскировщика.
- А ты кто будешь?
- Журналист!
- Журналист – это хорошо. Пиши: «пей компот, читай газету, пионером станешь к лету».
- Сам сочинил?
- Она надоумила, белоголовочка! - плеснул мне в мензурку из кофейника. - Будь здоров, и не кашляй! А в газету сообщи читателю: сочинение сообразили на двоих, Ортем Картузов и подруга его белоголовочка.
- Артем? – переспросил я.
- Ортем!
- О! - удивился я, чуя в имени его израильский корень. Вне сомнения, первый слог «Ор» - это ивритское слово «свет». В памяти тут же возникли имена: Ор, Орен, Орна. Но раскрываться в присутствии посторонних я не стал, мне достаточно было объяснить свое восклицание элементарным: - Справа налево, Ортем, ваше имя читается… знаете как?
- Ну?
- Метро.
- Ну! А как это понимать - справа налево?
- С заду наперед.
- Ну, ежли с заду! С заду можно и в метро. Но посуду верни, журналист! Очередь у нас живая, пока на ногах стоим. Даешь отвальную гастроль!
Ливик Генделист протиснулся ко мне, перенял у Ортема эстафету в виде мензурки с рисками у цифр – от 10 внизу, до 100 у самого верха.
- Оки-доки! Открытие навигации у них! Информ-бля-шку даем на первую полосу! - и, крякнув, занюхал рукавом форменки.
- Не то поешь, кореш! - перебил его Ортем-североморец. - Кому открытие, а нам сухой закон, понял? С завтрашнего дня все питье – на амбарном замке.
- С открытием навигации – у них полное закрытие магазинов на предмет продажи винно-водочных изделий, - паясничал Ливик Генделист, посыпая без содрогания соль на душевные раны местного жителя, нареченного наполовину по-еврейски. Правда, если взглянуть на него хоть в упор, никакой еврейской половины не различить. На философском уровне это выражается приблизительно так: этнографическая удача свела тебя, добрый человек, с последним представителем одного из десяти потерянных израилевых колен. Но распознание уточняется. Известно только, что беспрестанной мимикрией и пьянством этот последний представитель довел себя до полной потери древнего иудейского облика.
20.
Атавизм и комплекс динозавров…
Чем не заголовок для романа? Но мы роман не пишем, мы пишем репортаж. Вот и пишем: отрастающих хвостов не обнаружено, когтей и клыков тоже. Потомки библейского племени, если они таковыми и были по генному коду, внешне ничем не отличаются от правнуков викингов, славян и ненцев. Скорей всего, их предков просто перемешали в одной доисторической купели, а потом пустили под ближайший кустик поиграть в любовь. Кстати, в пятидесятых, когда я в четвертом классе добросовестно изучал историю древнего мира, об атавизме и комплексе динозавров говорил мне папа Арон Гаммер, музыкант, жестянщик, изобретатель и неистощимый на реальные истории из собственной жизни рассказчик. Говорил, вспоминая, как в 1941-ом попал он вместе с моей мамой Ривой, бабушкой Идой и многочисленными племянниками прямиком из оставленной советскими войсками Одессы в глубокую эвакуацию, на южный Урал, в башкирское село, где и не представляли, что библейские персонажи все еще существуют и называются по паспорту ныне евреями.
«Евреи, евреи! Привезли евреев! - лихорадило деревенское население, не очень образованное по части обременительной для ума антропологии и других естественных наук.
«Это какие евреи?»
«Допотопные! Те, что великану Голиафу башку камнем пробарабанили!»
«А как они выглядят?»
«Так: глаза – во! И в каждом огонь! Зубы – во! И каждый - что твой клык!»
«Пойдем смотреть на евреев!»
«А где их прячут? В клубе?»
- И пошли в клуб. Как в зоопарк, - рассказывал папа. - Входят, и по стеночке притираются к нам поближе, чтобы посмотреть: есть ли у нас копыта, растут ли рога? А я сижу на эстраде клубного помещения, куда нас временно распределили. Сижу на табуретке, обнимаю баян, и думаю об атавизме и комплексе динозавров. И еще я думаю, что кушать нам нечего. И мы тут подохнем с голоду раньше, чем устроимся на работу. Вижу, собралось вдоль стеночек множество народа – мужики, бабы, дети. Не шепчутся, не толкаются, глазеют - высматривают: где у нас рога, где копыта? Тут я и рванул меха баяна! Да как дал парочку басовых аккордов! О-го-го! Все - врассыпную, будто бомба разорвалась. А минуту спустя, опять дверь открывается, и бочком-бочком, притуляясь к стеночке, один, второй, третий. Повеселело во мне, я и подумал: чего их пугать басами? Давай-ка, как в одесском парке Шевченко, отыграю им плясовую. И отыграл. Ноги – врозь, руки – врозь, танцуют – радуются. А с радости и догадались: никакие мы не питекантропы, тем паче не динозавры. Такие же обычные люди, не страшнее их. И пошло - поехало: я им музыку, они нам покушать. Сплошная любовь и взаимопонимание.
«Любовь, любовь, как много в этом звуке!» - внезапно раздалось во мне, загасив досужие воспоминания в момент. На причале… Такое могло случиться только в сказке…
На причале…
На причале меня встречала Галка!
Моя Галка Волошина!
Галка, которая бегала в библиотеку на поиски какого-то географического справочника об Амдерме.
Галка, которая проводила меня в Риге до самолета.
Там, в фойе аэропорта Румбула, я простился с ней на месяц.
Вот так встреча!
Полторы недели не прошло, и она тут как тут! В своей серой куртке с капюшоном и на молнии, купленной для нее мной в Ленинграде, когда ездил с ребятами из пароходства туда на экскурсию – «Аврору» посмотреть, в «Эрмитаж» сходить. Действительно, запоешь: «моряк вразвалочку сошел на берег, как будто он открыл семьсот Америк». Но какие песни? Какие Америки? Добраться бы скорей до арктической суши да прыгнуть с носа буксира прямо в объятья «ненаглядной плясуньи моей».
- Галка! Ты? - в прыжке я и явился перед ней.
- Я!
И предстал я на береговом гравии, чисто дядька Черномор, вышедший из моря. Не совсем, конечно, Черномор. Но и такой, без меча и шлема, сгожусь. Да и сопровождение… Что за чудный подарок для ее заполярных подруг! Пусть и не тридцать три богатыря, но каждый – десяти стоит. Это – маэстро Ливик Генделист, штурман Стасик Карасик, боцман Андрей Распашкин, матрос Костя Бровиков. Посмотри на них, Галка, оцени. Но не обращай внимания на изумление в их глазах, которого хватит на всех тридцать трех молодцев из царства Нептуна. В изумлении сокрыта, пойми и проникнись, зависть непритворная – зависть в мой адрес: «это надо же, не успел пришвартоваться, а уже обеспечил себе якорную стоянку на всю ночь».
- Галка! - Я обнял девушку, чмокнул в щеку. - Как ты тут оказалась?
- Приехала.
- Понимаю, что приехала. Но почему мне не сказала?
- А как тебе скажешь, когда ты уже отчалил? - девушка схватила меня за пуговицу пальто, чтобы, полагаю, не отчаливал я больше в чужие края. - Да и некогда было, точняк! Телеграмму получила, что сестра родила, и махнула.
- Семимесячный?
- Семимесячный.
- Преждевременный?
- Преждевременный!
- Негаданный.
- Гаданный и законный.
- Как назвали?
- Помнишь, я обещала: родится мальчик, назовем твоим именем.
- Так и назвали?
- Так и назвали. Сашей.
- Как?
У меня, говоря языком романистов, потемнело в глазах, а в сознании, наоборот, прояснилось: надежды, что юношей питают в отношении сексуальной разрядки, оказались полным блефом. Ни застеленной постели, ни взбитой подушки, да и Галка моя на поверку выявилось вовсе не моей – Сашиной, здрасте!
- Саша, - обратилась ко мне Галка, держа меня за пуговицу пальто, чтобы, должно быть, не сбежал. - Я сестре обещала...
- Что?
- Познакомить с тобой. Должна же она знать, в честь кого сыночка нарекли.
- А папа у сыночка есть?
- Папа в плавании. Поэтому я и ухнула сюда. Прямиком из Питера.
- Из Питера? - замялся я.
- Точняк, а что ты? Можно подумать, с Марса свалился…
- Я из Риги, Галка!
Мое разочарование передалось и спутникам моим, цоканье языком прекратилось, зависть в глазах потухла.
И послышалось со стороны.
- Ты уже скоро, герой-любовник? - (Это Ливик Генделист подает ехидные позывные.)
- Не забывай, тут с началом навигации всю водку прячут под замок. - (Это боцман Андрей Распашкин.)
А это кто ему в ответ? Ах, да! Галка это, Галка. Та, что Сашина – не моя.
- Не беспокойтесь за водку, до завтра не запрячут!
Мой поцелуй все еще щекотал ее щечку. И под влиянием его, либо по иной причине, она не отпускала пуговицу моего пальто, машинально крутила ее туда-сюда, вот-вот оторвет. И что бы вы думали? Оторвала.
- Ой! - сказала испуганно. - Пришить надо! А то так неудобно ходить по улицам, правда? - и просительно посмотрела на меня.
- Правда, - ответил я, не постигая, как совладать с женской хитростью.
Но моим спутникам было плевать на женскую хитрость. Им своя дороже. А своя – это поспей в продмаг до закрытия, обломи в ближайшей столовке алюминиевую «бескозырку» на полулитре «Московской», выплесни из стакана кисель и налей «под козырек» сороковочки. Почему в стакан из-под киселя? Потому, что затенена водочка будет свекольным оттенком, и никто не приметит под ним истинного цвета напитка.
- Навигация! - торопят меня моряки.
- Не переживайте сверх головы! - вразумляла их Галка. - Навигация - точняк! - начинается только завтра. Так по всем документам записано. По этому случаю и праздник даем.
- Праздник?
- А как же! С украшением. На украшение - боксерский матч: Амдерма против танкера «Юрмала».
- Мы с «Юрмалы», - сказал я.
- Вас и встречаю!
- Тогда разрешите представиться. Капитан сборной «Юрмалы» и ваш несостоявшийся Саша – в одной упаковке. А вы, извините, кто, если не секрет.
- Я Галка Привалова. Тут, - показала под ноги, - сестру заменяю. Пока она в декрете, я вместо нее - в спорткомитете «Водник». Точняк! Мне вас встречать и устраивать.
- Оки-доки, но сначала в магазин! - протиснулся к девушке Ливик Генделист. - Потом в забегаловку: выпить-закусить.
- А потренироваться?
- Мы тренированы, - не растерялся Ливик, показал кулак: - Ну, красавица, веди… Навигация у них, вишь, завтра начинается. А раскупать уже сегодня приступят.
- Не успеем, - согласились мои спутники.- Увольнительная до вечера. А нам еще отрезветь предстоит.
- Но как же пуговица? Ее ведь пришить надо. - девушка сделала вид, что растерялась, но пуговицу, будто невзначай, положила в карман своей куртки.
Теперь – и это разом поняли все – я был к ней пришит. Понятно, не к Галке, а к пуговице. Но пуговица была все же в ее кармане.
21.
- Рельсы упрямо режут тайгу, - исполнял под гитару какую-то комсомольскую песню Ливик Генделист.
А я, дурачась, подпевал:
- Папочка маму жарит в снегу.
Мы сидели на диване, у подготовленного к пиршеству стола: граненые стаканчики, фаянсовые тарелочки, скатерка накрахмаленная, искусственные цветы в глиняном кувшинчике. А напротив Галка, пришивающая пуговицу к моему пальто, и сестра ее Ира, мама новорожденного Сашеньки, чей папа в дальнем плавании. Обе девчушки - первой амдермской свежести. Наряжены, как на парад. Шелковые блузки разной расцветки, но одинакового фасона. Узкие юбки офицерского сукна: широкий пояс на высокой талии и шеренга лобастых пуговиц от бедра до щиколотки ноги. Такие юбки звались у нас: «мужчинам некогда».
Левую руку с грифом гитары Ливик держал для устойчивости на подлокотнике, перебирал струны, прикидывая: петь или не петь, а если петь, тогда - что? На потребу дня или для настроения? Выбрал - настроение. Но перед тем как подражать Высоцкому, предупредил публику: «музыка и исполнение – мое, домашнего приготовления, а слова песни не мои. Правда, их автор далеко от песни не отходит, сидит рядом – ревнивый, стервец, но прошу любить и жаловать». И запел:
- Выходят замуж девочки.
Мы рады и не рады.
Как змейки вились ленточки
В косичках их когда-то.
Он толкнул меня локтем и, выстраивая мелодию второго куплета, попросил подключиться.
Я и подключился, автор все же!
Как змейки вились ленточки,
Огнем горя лиловым.
Выходят замуж девочки.
Как странно это, ново.
А так недавно просто мы
Играли в прятки с ними.
На фоне белой простыни
Нас всех фотограф снимет.
К песне подключился и Стасик Карасик, знакомый с ней еще с начала января 1966 года, когда это стихотворение напечатали в латвийской «Молодежке» и оно сразу превратилось в своеобразную фишку неженатой части мужского населения Риги.
- Получим фотокарточки
От девочек в наследство.
И – до свиданья, мальчики!
И – до свиданья, детство!
Выходят замуж девочки.
Как странно это, ново.
А мы храним их ленточки –
Огонь тех лет лиловый.
- Все! - сказал Ливик Генделист. И подделываясь под Крючкова из фильма «Небесный тихоход», продолжил, чуть переврав фразу. - Встали, подняли сумки, поклонились и разгрузились.
Мы и поднялись с дивана. И давай «разгружать» добро, купленное в продмаге: водку, консервы, колбасу.
На кухню, в помощники Галке, пришившей уже пуговицу, выделили судового кудесника-деликатесника Ливика Генделиста, чтобы он закатал пир на весь мир. А пока что налили по маленькой и отметились за столом «по-походному»: крякнули и в очередь поковыряли вилкой «завтрак туриста» из жестяной банки, стоящей на тарелке, чтобы не запачкать скатерку. Обещались еще гости, тоже из первых красавиц Амдермы, которых, не глядя, мы якобы «пригласили в кино на дневной сеанс». И мы, выпив еще по одной для согрева, настраивались на встречу.
Мне почему-то вспомнилось папино, родом из Одессы тридцатых годов, изречение: «Пойдем в кино, там будет темно, купим пирожное, купим мороженое, и будем делать все, что только возможно».
Обо всем, что только возможно мы и не помышляли бы за накрытым столом в довольно просторной – на три комнаты – квартире. Однако уже первый проход по заполярному городу, где бегают, как сообщает местная пресса, белые медведи, дал нам некоторые представления о его, доступном пониманию, моральном облике. Первое, что бросилось в глаза, когда с покрытого гравием и бетоном побережья мы поднялись к главной улице, должно быть, нареченной проспектом Ленина, это - недостроенное четырехэтажное здание серого цвета, типа «хрущевка». Пустые глазницы окон, широкая трещина, спускающаяся зигзагообразной молнией с самого верха к фундаменту. Поперек трещины, в обхват дома, красной лентой подрагивал на ветру выгоревший транспарант: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Над транспарантом возвышался Владимир Ильич с протянутой в будущее рукой. С крыши броневика, намалеванного под ним на двухметровом листе фанеры, он возвещал: «правильным путем идете, товарищи!».
Мы шли правильным путем. Прямиком по Амдерме. И не смотрели себе под ноги. А когда посмотрели, то тут же, прыская, начали переглядываться. При том с таким расчетом, чтобы избежать, пожалуй, от смущения, глаз нашей спутницы – Галки из спорткомитета «Водник».
Под ногами, справа и слева, на расстоянии метров двух от домов - дальше не закинуть! - валялись использованные презервативы, «гандоны», если по рабоче-крестьянски: четыре копейки за пару.
Чем тут по ночам занимаются строители коммунизма было ясно. «Про это» из одноименного романа Уэллса мы подумали в унисон. Мысль наша, телепатически передалась от одного к другому, вызвала ехидный смешок и игривое перемигивание. А в теле у каждого из нас возник прилив здорового оптимизма, порождающий волну сексуальных сил.
Всем известно: самая мощная в мире энергия – это сексуальная. Если соединить ее воедино, то советские люди и без ракетоносителей запузырили бы в космос Стрелку и Белку еще за десять лет до их исторического полета. При ограничении сексуальных свобод, при элементарной невозможности отдаваться любви от души, этой энергии накопилось у советского человека, собирающегося жить в коммунальных квартирах еще и при коммунизме, на сто с лишним запусков космических кораблей. И используй ее по назначению, то, вне всякого сомнения, мы опередили бы американцев с высадкой на Луне.
Но стратеги завоевания околоземного пространства не думали об «ядреных ракетоносителях», заключенных в недрах своего народа, и поэтому мы имеем, что имеем. Хотелось, как лучше, а получилось как всегда. На Луне американцы, а мы – там, откуда и вышли на свет Божий.
Се-ла-ви, - как говорят французы, когда думают о том же, что и мы, «закупаясь» в магазине с желанием отметить начало навигации, открытие которой совершили не чужие дяди, а именно мы, юрмалчане, прибывшие первыми в освобожденный от матерого льда амдермский порт. Ур-ра, товарищи!
Между тем предприимчивый Костя Бровиков наладился к Ирочке, кормящей матери с большой грудью. И прикинувшись большим любителем маленьких детей, удалился поглазеть на новорожденного младенца в спальню.
Из кухни потекли дурманные запахи, явно не от бычков в машинном масле.
- Жареная колбаска! – кинул предположение Стасик Карасик.
- С яйцами, - подметил боцман Распашкин. – Омлет мне, омлет! Полцарства за омлет!
- Погоди! А это что? Лучок в кислом соусе: томатная приправа, уксус, соль, перец, - штурман безошибочно ориентировался в кулинарном лабиринте.
- Закус - первый сорт! - согласился Андрей Распашкин, машинально протянул руку к бутылке, налил по стопарику.
Боевитость его передалась и мне. С нетерпением я крикнул в запертую на кухню дверь - кудеснику-деликатеснику Ливику Генделисту.
- Долго у тебя?
- Сей момент, господа гусары.
- Мы ждем!
- Оки-доки! Вам – как? На блюдечке, с голубой каемочкой?
- Хватит хохмить! Народ кушать хочет!
- Раз-цвай-драй! А сенсацию народ не хочет?
- Какую еще сенсацию?
- Журналистскую! Информ-бля-шка на первую полосу!
Магнитную приманку изобрел Ливик! Вот мелкий бес!
Инстинктивно я поднялся с дивана, шагнул на кухню и отворил дверь, полагая увидеть судового кока фарширующим голову белого медведя – из тех, кто повадился пугать амдермскую детвору, что явствовало из прочитанной давеча в курилке заметки. Но ничего подобного. Ливик мелко крошил чеснок, помогая Галке заправлять борщ.
Я посмотрел на него вопросительно.
Он посмотрел на меня заговорщицки и, подмигнув, указал ножом, на дверь, ведущую в смежную комнату - в ванную, как выяснилось через минуту.
- Деда, - предупредил кого-то за дверью. - К вам журналист. «Латвийский моряк». Пропишет-прославит на весь Союз.
А мне полушопотом:
- Дод Лавандов! Народный умелец, из ненцев. Резчик по кости и дереву.
- А что он тут делает? На квартире у девочек?
- Оки-доки, режет, - невозмутимо пояснил Ливик Генделист, скрывая усмешку в глазах. - А что режет? Материал на первую полосу режет. Ленинского фасона, как раз на юбилей – к столетию, так сказать.
Видя мое недоумение, Галка поспешила с разъяснениями.
- Деда – папа папиного Сашки, голопуза нашего…
- Понятно.
Еще не совсем врубившись в ситуацию, я вошел в незапертую комнатушку и обнаружил старца костлявого, вида азиатского, росточка невеликого. Он сидел лицом ко мне на табуретке, у прогретой печурки с колонкой, подающей воду. Сбоку от него, на черной, чугунного литья, ванне лежал лист трехслойной фанеры, а на нем полутораметровые палки. Они походили на толстые бамбуковые удилища, укороченные для спиннинга, сантиметров по пять в поперечнике. Блокнотные листки с какими-то четко, чуть ли не каллиграфически выведенными писаниями были прикреплены прищепками на бельевых веревках.
- Дадзы-бао? - спросил я, наблюдая, как старичок-ненец, склоняясь над палкой бежевого отлива с продольными прожилками, старательно вырезал на ней профиль Ленина.
- Чо? - поднял он голову.
- Цитаты из Мао?
- Не то говоришь, человек. Маяковский!
- Маяковский? - удивился я.
- Читай, коли грамотный! - резчик по кости и дереву протянул мне недооформленное удилище, без катушки и лески, и я прочел выгравированное на ней: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше».
- Это вы, что ли, чистите себя под Лениным?
- Почему я? Он.
- А кто он?
- То, что держишь в руках.
- А что это?
- Хер! Хер моржовый!
- Что?
- А чо? Самое ценное в наших краях.
- А моржовая кость?
- И моржовая кость ценная. Но моржовый хер ценнее. У моряков за полста идет. А на столетний юбилей - с Лениным и Маяковским - еще ценнее будет. На четвертак, пожалуй, прибавят, - и процитировал по бумажке, выдернутой из прищепки, что на бельевой веревке над головой: «Партия и Ленин – близнецы братья. Кто более матери-истории ценен? Мы говорим Ленин, подразумеваем – партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин».
Я выслушал чтеца и глухо промолвил:
- У меня и ради Маяковского полста не наберется. Червонец сгодится? Тоже денюшка ходовая, и тоже с профилем Владимира Ильича.
Продавец революционных сувениров не упрямился. По всему чувствовалось: в отношении своих барышей он сильно загибал, хотя не мне, прибалту, судить об истинной стоимости моржового хера. Кстати, слово это старик-ненец произносил без всякой неловкости, не то, что я - «образованец» середины двадцатого века. Ведомо было ему или не ведомо, но само по себе слово «хер» отнюдь не несет никакого паскудного смысла с эротическим привкусом. По сути, оно и не слово вовсе, а, согласно объяснениям наших университетских преподавателей, обычная буква древнерусского алфавита, и рисуется в дореформенных букварях подобием креста. В подобии же креста, как и в десятке с изображением Ленина, ничего вульгарного нет. Так что старик торговаться не стал.
- Ладно, договорились. Червонец - в оплату за надпись. А хер моржовый тебе - за так, подарок на день столетия Ленина.
- У меня бабушка Сойба и дедушка Фройка тоже родились в 1870-ом, у них тоже в эти дни столетие, да никто об этом не помнит. И в газетах не пишут.
- Во-во! Бери хер бесплатно, чтобы не было обидно! Подарок будет тебе и на их столетие. Так и напиши в газете: народный умелец Дод Лавандов подарил мне моржовый хер на общее столетие правильных людей, берущих начало от Авраама.
- Не Адама? - переспросил я, вспоминая, что некогда, еще сидя в Риге, посчитал ненцев за потерянное израйлево колено.
- Авраама! Авраама! - укоризненно заметил мне Дод Лавандов. - Как в Библии сказано, так тому и быть: Авраам породил Исаака, Исаак породил Яакова. А потом народились и мы, грешные.
- Не считаете ли вы, что у вас еврейские корни? - задал я журналистский вопрос, который на территории Советского Союза впервые проклюнулся во мне.
Старичок пожал плечами.
- Корни у нас у всех одни, от Авраама. А по роду мы ненцы.
- Но ведь у вас и имя на еврейский лад.
- Чего?
- Лад, говорю, древнееврейский.
- Лад – древний, согласен. Но не еврейский. Ненецкий у нас лад, от дедушки, от бабушки.
- Тогда имейте в виду, «дод» - слово древнееврейское. В переводе с иврита: «дядя».
- Откуда знаешь?
- Из университета, - правдоподобно солгал я..
- Это там, где мертвые языки изучают?
- Точно.
- Ну, и как я гляжусь на мертвом языке? Правильно?
- Очень даже правильно. Фамилия ваша на этом мертвом языке вообще такая, будто язык и не мертвый.
- Лавандов – я! Какая фамилия?
- А такая! Фамилия ваша на университетском языке – Белый медведь. Получается, вы в полном переводе с еврейского – Дядя – Белый медведь.
- Даешь стране угля!
- «Лаван» - это по-русски - «белый», - поспешно растолковывал я, - а «дов» - «медведь».
Дод Лавандов посмотрел на меня с недоумением.
- Белый медведь – да! Водится у нас. Но я не белый медведь. И не его дядя. Это у эскимосов прозвища по зверям. А у нас все по паспорту. Я Лавандов. От собственного папы, от собственного деда. Лавандов, и все тут! А он, дед мой, сторожем был при аптеке. Лавандой-одеколоном пропах на работе, вот и фамилию получил по запаху. Ну, так берешь моржовый хер?
- Беру.
- Тогда гони кормилицу, с самым человечным на красненькой.
Я вытащил из портмане ассигнацию.
- Вот.
Дов Лавандов принял десятку, положил на ладонь, другой разгладил и любовно сказал:
- Охота на него посмотреть. Самый человечный человек, когда на червонце. На моржовом хере так не получается. Но все равно он у меня и на моржовом хере живее всех живых.
- По-Маяковскому?
- По-Маяковскому! - серьезно ответил народный умелец. - А как же иначе? Хер моржовый – это тебе не на день-два... Шалишь, товарищ! Это инструмент - на вечность. Он и в двадцать первом веке будет тебе служить, как живой. А бумажка? Бумажка не ему чета. Сотрется, потеряется…
- Да и пропить ее можно невзначай.
- Это уж непременно. А в магазин сбегаешь?
- Зачем бегать? У нас уже все припасено и на стол выставлено.
- Чего же мы здесь сидим? Разговоры лучше вести за столом. Бутылка – не хер моржовый, попусту вечность стоять не будет. Выпьют…
XXI век. Ассоциация девятая:
КТО ЕСТЬ КТО В НАШЕЙ ИСТОРИИ
Словно в магический кристалл глядел народный умелец...
Моржовый хер я вывез в Израиль, поместил на ковре в спальне. И теперь он - вперекрест с охотничьим ружьем - всегда перед глазами. Этакое вечное - прав был, прав старик-ненец! - напоминание о том, как проходит мирская слава. Впрочем, в Израиле я не единственный обладатель экзотического сувенира. Имеется подобное украшение и у Игоря Губермана, популярного в размер обоих земных полушарий автора «Гариков» и страстного коллекционера живописи, обладателя и моих графических работ.
Помнится, когда распивал я с ним на пару бутылочку чистой, как слеза, он вздумал задать мне визуальную загадку: вынес из кладовки отвердевший моржовый хер и спрашивает: «Угадаешь, что это, с меня пол-литра».
Нечего и говорить, вторую «полшу» выставлял Игорь.
Было это недавно, было это давно - в январе 1988 года, сразу же после того, как Игорь вместе с Сашей Окунем, уже тогда широко известным живописцем и радиожурналистом, побывал на открытии моей выставки в Доме художников Иерусалима, и пригласил к себе – «обмыть это дело». Мы и обмыли. И раз. На его квартире. В компании с Сашей Окунем. И два на моей квартире. В компании с Сашей Окунем. И неоднократно в буфете, у себя на радио «Голос Израиля» - «РЭКА», где много лет проработали бок о бок – я, Игорь Губерман и Саша Окунь. За обмыванием не заметили, как пролетело два десятилетия.
…Вот мы и вступили в новый, 2008 год. В сумме его нумерология дает заветную десятку: два плюс восемь. А десятка, как мы помним из начальной школы, делится на две пятерки. Вот я и желаю вам, господа читатели, каждое из двух полугодий прожить на пятерку, как это удавалось некоторым из героев последнего тысячелетия. Кому? Не буду скрытничать: тем, кто вошел в список самых великих людей последней тысячи лет и ощутимо повлиял на развитие нашей цивилизации. Этот список был озвучен в королевской обсерватории в Гринвиче – Англия. И, несомненно, представляет для нас особый интерес. Ведь с его помощью мы можем совершенно объективно, глазами всемирно-известных ученых- специалистов, определить: кто есть кто в истории, от тысяча первого года нашей эры до конца двадцатого века.
Итак? Начнем?
Начнем! Но предупреждаю, я не стану перечислять подряд все имена, чтобы вас не утомлять, а ограничусь лишь теми, которые чаще всего были у нас на слуху. И первым назову того, кто по версии Пушкина, в Европу прорубил окно.
Это, разумеется, Петр Первый. Но в списке, как вы уже догадались, он занимает далеко не первое место. К лидирующей группе путь нам предстоит долгий. Почему? Да потому, что находимся мы пока что в хвосте очереди, на месте №83. Вот под этим восемьдесят третьим номером и входит царь Петр в список великих людей последнего тысячелетия.
Пойдем дальше.
79. Иосиф Виссарионович Сталин. Удивительно, но Гитлер в этом реестре занял более высокое место – 16. Трудно судить – по какой уважительной причине? Может быть, потому, что своих соратников он, в отличие от Сталина, не стремился уничтожать в огромных количествах.
62. Уолт Дисней. Автор «Белоснежки» и многих других мультфильмов. С детства Уолт мечтал стать карикатуристом. В 1923 году он открыл студию рисованных фильмов, где и был рожден знаменитый мышонок Микки Маус, который, выйдя на экран, принес своему создателю всемирную славу и большие деньги.
60. Франклин Рузвельт, единственный американский президент, который избирался три раза.
58. Жанна де Арк. Легендарная Жанна, память о которой будет жить столько же лет, сколько просуществует Франция.
57. Элвис Пресли, король рок энд рола. Продюсеры нашли его и возвели на престол, когда парень записывал в ничем не примечательной студии песню, сочиненную на день рождения мамы. Так в Америке, где очень любят феномен Золушки, рождаются земные звезды.
55. Магеллан – первопроходец, открыватель новых путей. Он совершил кругосветное путешествие и нашел морской проход в Тихий океан.
На 54 месте другой, не менее знаменитый путешественник. Венецианский купец Марко Поло, в 1271 году «открывший» для европейцев Китай.
49. Михаил Горбачев, первый и последний президент Советского Союза.
42. Просто Мендель. Человек, чье имя мало кому, в особенности в СССР, было известно. А ведь скромный монах Мендель сделал величайшее открытие, благодаря которому возникла генетика.
41. Билл Гейтс – ныне один из самых богатых людей на Земле. В реестре великих значится потому, что является разработчиком компьютерных программ, завоевавших всю нашу планету.
40-е место занимают братья Райт, изобретатели самолета. Первый их летательный аппарат поднялся в воздух 17 декабря 1903 году и по сути дела открыл дорогу двадцатому веку в космос.
Всего на пять пунктов опередил братьев Райт Владимир Ильич Ленин. Так проходит мирская слава. Казалось бы, ни о ком в мире не слагали в таком количестве стихов и песен, как о нем, доказывая, чем он «матери-истории ценен». А в результате всего 35 место.
30. Людвиг Ван Бетховен. В детстве деспотичный отец хотел сделать из него второго Моцарта. Но упрямый ребенок не внял папиным «палочным» рекомендациям и пошел своим путем. И получился из него не второй Моцарт, а первый на весь подлунный свет Бетховен. Кстати о птичках: его «Аппассионату», если верить идеологам от советской музыки, любил Ленин. В галерее политической иконографии существовала даже картина «Ленин слушает «Аппассионату» Бетховена».
Но от музыки и революционных идей перейдем на минуточку к понятиям капиталистического рынка.
29. Генри Форд. В первой половине двадцатого века создал самую крупную автомобильную империю. По сей день машины с маркой «Форд» высоко котируются у профессионалов и любителей прокатиться с ветерком и комфортом.
А теперь с шоссейных трасс вновь вернемся в чарующий мир музыки.
28. Иоганн Себастьян Бах. Для современников он был всего лишь обычным органистом – исполнителем и сочинителем. Лишь спустя два века его имя вошло в анналы истории, а его Божественного звучания фуги получили мировое признание.
27. Еще один беспощадный покоритель Европы. Наполеон. К власти он пришел в год рождения другого гения Александра Сергеевича Пушкина - в 1799 году. И властвовал много лет, усеяв поля Европы сотнями тысяч трупов. Воистину, как он сказал, от великого до смешного один шаг. Каким бы ни был талантливым полководец, но нельзя забывать: всходы его величия орошаются живой человеческой кровью, а урожай измеряется тысячами жизней.
Что ж, забудем о войнах, вспомним другое, более приятное: когда молчат пушки – говорят музы. Впереди Наполеона, на 26 месте, гений на все времена - Моцарт. «Все было в его голове изначально, когда он сочинял музыку, - писали современники. - И казалось, он не сочиняет, а как бы переписывает партитуру. Можно было бы сказать – списывает. Но у кого? Не у Бога ли самого?»
23. Американский президент Авраам Линкольн. Он возглавил Соединенные штаты в период гражданской войны, будучи до того адвокатом. Небезынтересно, что на адвоката он выучился экстерном. В историю Авраам Линкольн вошел во многом благодаря своей знаменитой декларации. Как мы помним из университетских учебников, эта декларация отменила рабство. Но она не способна была изменить человеческую сущность. И Авраам Линкольн был предательски убит заговорщиком, как впоследствии другой, не менее знаменитый президент Соединенных штатов Америки Джон Кеннеди. Эти два убийства имеют мистическую окраску. И массу непонятных совпадений.
Авраам Линкольн был избран в Конгресс в 1846 году. Джон Кеннеди - в 1946. Авраам Линкольн стал президентом в 1860 году. Джон Кеннеди - в 1960. Обоих убили выстрелом в голову. Мало мистики? Что ж, продолжим. Фамилия секретаря Линкольна - Кеннеди. Фамилия секретаря Кеннеди - Линкольн. Преемниками обоих на посту президента были выходцы с юга, оба носили фамилию Джонсон. Причем, Джонсон, преемник Линкольна, появился на свет в 1808 году. А Джонсон, преемник Кеннеди, - в 1908. За неделю до гибели Авраам Линкольн посетил город Монро. За неделю до гибели Джон Кеннеди был в гостях у Мерелин Монро.
Полное совпадение по году рождения и у убийц этих выдающихся американских лидеров. Джон Вилкс Бут, убивший Линкольна, родился в 1839 году. Ли Харви Освальд, убивший Кеннеди, - в 1939. Обоих преступников – Бута и Освальда – прикончили до начала судебного процесса.
Покушение на жизнь Авраама Линкольна - президента-реформатора - было совершено в театре. Так что, волей неволей, подражая Шекспиру, можно воскликнуть: «Весь мир театр, и люди в нем актеры!». К этому восклицанию остается добавить рассудочное: «жизненные спектакли идут без репетиций, а кто их ставит – один Бог знает».
Но забудем о мистике, и снова вернемся к неуемным завоевателям и поработителям нашего мира. С ними все ясно.
Под номером 22 в нашем реестре мы обнаруживаем неуловимого Чингис Хана, возводившего в бескрайней степи многометровые курганы из черепов. Что о нем известно, кроме прописных истин? Мало кто знает, что злодеи-враги отравили его отца. Мало кто знает, что он поклялся отомстить злодеям. Но хорошо известно – на тысячу лет вперед, что он не только отомстил злодеям-врагам, но попутно и всем прочим жителям нашей Земли-матушки. Правда, опять таки мало кто знает, - за что. Чингиз Хан покорил почти половину всех, известных в пору его владычества земель, и создал первую на нашей планете настоящую империю.
Пошли дальше…
21. Джордж Вашингтон, первый президент США. Американцы не боготворят своих политических лидеров, хотя и относятся к ним с почитанием и уважением. Поэтому о каждом, помимо его заслуг, имеется у них и немало анекдотов. До наших дней дошла любопытная деталь облика Джорджа Вашингтона. Как утверждали очевидцы, у него были вставные зубы, похожие на клыки бегемота, и поэтому он практически никогда не улыбался. Таким мы и видим его на долларовой ассигнации – не улыбчивым. Оно и понятно: «Время – деньги, а деньги – штука серьезная».
19-м значится в списке Микеланджело, величайший скульптор и художник Возрождения, который уже в довольно преклонном возрасте расписал Сикстинскую капеллу. Великолепную Пьету он «извлек» из мрамора в 25 лет, псалмопевца Давида, победившего Голиафа, – в 29. Скульптура Давида стала символом Флоренции.
17. Махатма Ганди, великий вождь Индии. Он привел свою страну к независимости без единого выстрела, без кровавых бунтов и революций.
16. По иронии судьбы рядом со светлым обликом Ганди, опередив его на одну ступеньку, соседствует Адольф Гитлер – один из самых кровавых злодеев за всю историю человечества.
14. Томас Эдисон. Этот невероятно одаренный в области технических новаций человек проучился в школе всего три месяца. И вот, имея, казалось бы, очень ограниченный набор знаний, он запатентовал 1093 изобретения. Уму непостижимо - просто рекорд для книги Гиннеса! Среди его изобретений – электрическая лампочка, кинескоп и многое другое. Когда он умер, а случилось это в 1931 году, то в память об изобретателе по всей Америке всю ночь мигали фонари.
12-м в списке стоит Зигмунд Фрейд – человек, который в корне изменил человеческие представления о самих себе, раскрыл наши тайные страхи, забрался в глубины подсознания.
11. Наконец-то! Леонардо да Винчи – гений всех времен и народов. Художник, изобретатель, ученый. Его полотна «Мона Лиза», «Тайная Вечеря» навсегда останутся непревзойденными шедеврами. Но и достижения его научной мысли не знают равных. Он проводил анатомические исследования, изобрел танк, вертолет, строил фортификационные сооружения. По сути дела, Леонардо опередил свой век чуть ли не на пятьсот лет. И с этим практически согласны все.
10. Галилео Галилей. Благодаря этому ученому появилась современная астрономия. Он развенчал миф о том, что Земля является центром мироздания.
9. Николай Коперник. Он жил за сто лет до Галилея. Определил, что Земля вертится вокруг Солнца и вокруг своей оси, полный поворот совершает за 24 часа. Свое революционное открытие скрывал 30 лет, боясь церковного наказания.
8. Альберт Эйнштейн. С детства страдал косноязычием. Начал свободно говорить лишь в девять лет. А когда заговорил, то его тотчас услышал весь мир. Уже в 26 лет, после того, как он создал Теорию относительности, к каждому его слову прислушивались от Берлина до самых до окраин, с южных гор, до северных морей. В 1933 году нобелевский лауреат, опасаясь преследований нацистов из-за того, что он еврей, эмигрировал в США. В 1952 году ему предложили стать президентом Израиля. Но Альберт Эйнштейн предпочел оставаться до конца жизни не политиком, а ученым.
7. Этот человек, хоть и являлся ученым-экономистом, предпочитал, по всей видимости, быть политиком. Карл Маркс. О нем, как мы помним, в Советском Союзе говорили так: «Учение Карла Маркса всесильно, потому что оно верно». Верно или неверно – это мы проверяли на себе, и каждый из подопытных кроликов, полагаю, остался при своем мнении.
6. Первооткрыватель Америки Христофор Колумб. Жизнь его – это увлекательная история для авантюрного романа. Он решил, что можно попасть на восток, плывя на запад. И стал первым европейцем, вступившим на землю Южной Америки и побывавшим на Карибских островах.
5. Вильям Шекспир. Театралы его называют – «величайшим из писателей всех времен». Им написано 154 сонета и 35 пьес. И все – классика.
4. Чарльз Дарвин. Любил наблюдать за миром животных. И на основе этих наблюдений создал свою теорию о видах. Впрочем, у каждого человека есть право выбора, он может идти за размышлениями Чарльза Дарвина и считать, что произошел от обезьяны. А может и не идти. Произошли мы от обезьяны или не произошли - это, как говорится, Бог его знает.
3. Священник Мартин Лютер. «Нет, веру нельзя получить от других!» - утверждал этот неистовый человек. Он перевел Библию с латыни на немецкий. Был объявлен еретиком, отлучен от церкви. Его религиозные реформы привели к 30-летней войне.
2. Вице-чемпионом тысячелетия стал Исаак Ньютон, открывший, как поговаривают, закон всемирного тяготения из-за того, что ему упало на голову яблока с дерева. Он учился в Кембридже, занимался гравитацией, оптикой, математикой, физикой.
1. Чемпионом на все времена признан Иоганн Гуттенберг, изобретатель книгопечатанья. Он создал печатный станок, который, можно сказать, и породил информационную революцию, продолжающуюся в мире и поныне.
Настоящая фамилия Иоганна Генсфляйш. На свет появился в Майнце, между 1394 и 1399 годами. После 1420 года его семья, как указывает советская энциклопедия, изгоняется по каким-то неустановленным причинам из родного города Майнца и обосновывается в Страсбурге, где талантливый ремесленник-самоучка переименовывает себя в Гуттенберга, взяв, как поговаривают, фамилию матери.
Я не поленился. И посмотрел по несоветскому историческому справочнику: а что происходило в Майнце, этом епископском городе, в 1420 году? Оказывается – именно в этом году в Майнце прошло первое изгнание евреев, проведенное по приказу архиепископа. Второе изгнание евреев из Майнца датировано 1438-ом годом, третье проведено в 1462-ом, четвертое в 1471-ом.
Ну, что тут скажешь? Факты – штука упрямая. Только это и скажешь. А все остальное – не моего ума дело. Пусть специалисты разбираются…
22.
Передо мной давний, потертый блокнот, с выцветшими от времени записями – комментариями к боям, проведенным в Амдерме. Листаешь его, и в памяти оживает все, до последней мелочи.
Мы были трезвыми. Это могло считаться единственным достоинством нашей сборной...
Правда, стоит добавить: у нашей сборной имелось про запас еще одно выигрышное качество - она располагала собственным корреспондентом, способным расписать театральное действо на ринге в удобоваримом виде.
Комар носа не подточит, а уж тем более не унюхает, чем разило тогда от команды «Юрмалы» с похмелья. Пришлось – по рецепту Ливика Генделиста – напихать в рот раскрошенного репчатого лука вперемешку с чесноком и жевать, жевать, будто мы - «западники» - подражаем американцам. Двигая безостановочно челюстями, мы вышли на парад-алле, пожали дружески протянутые нам руки, которые через четверть часа превратились в убойные кулаки, раздали вымпелы с кипенью бело-голубых волн под изображением латвийского герба, взамен получили вымпелы с лобастой физией белого медведя на фоне ледяных торосов, и разошлись по своим углам.
Историческая схватка двух морских гигантов начиналась. Балтийское море пошло на приступ Карского.
- Искры из глаз, и в каждом кулаке по нокауту!
- Оки-доки!
С моим напутствием, застрявшим в ушах, Ливик ринулся в бой.
Чего скрывать? Особых надежд я не испытывал, выпуская кудесника ложки-поварешки в атаку на «живой кусок мяса». С «мертвым мясом» он справлялся, и неплохо. Но с живым? Однако на первых секундах я был приятно удивлен. Ливик месил противника, таскал его, уходящего в глухую защиту, по углам. Долго такое надругательство над спортом добропорядочных джентельменов, разумеется, продолжаться не могло. Дыхалки у моего визави было накоплено в судовой курилке не больше чем на один раунд. И это выявилось уже на пятой минуте. А в перерыве между раундами выявилось и другое: чем Ливик загнал в глухую защиту своего клиента. Оказывается, этот мастер разговорного жанра, вручая ему перед матчем вымпел, успел шепнуть, что он де чемпион Прибалтийских стран, включая Швецию, Финляндию. Вот амдермский «мухач» и струхнул. А когда разобрался, Ливику пришлось пожалеть о неуемном хвастовстве.
Счет 1:0 в пользу Амдермы.
Тяжело пришлось и Косте Бровикову. Второразрядник. Это как клеймо. Предположение, что местные исполины мысли задумаются над аббревиатурой его имени, отчества, фамилии не сработало. Опасение у потенциальных противников парень вызывал не намеком на принадлежность к КаГеБе, а внешним видом. Вот они и искали путь к победе над его физически развитым телом, внушающим страх у мужчин полусреднего веса, но отнюдь не у женщин, каких бы габаритов они не были. И нашли, конечно, такой путь. Разумеется, он начинался и кончался женщиной.
Следует отметить, в женщинах, в отличие от мужчин-боксеров, Костя как раз и вызывал непреодолимую тягу к близости, и они готовы были сойтись с ним в клинче: и стоя, и лежа, и как угодно. Что и было доказано вчера на вечеринке, когда матрос удалился с мамой-кормилицей Ирой в спальню посмотреть на новорожденного младенца. Не думал Костя, не гадал, что спонтанная любовь сыграет с ним скверную шутку, и он израсходует себя преждевременно, до выхода в бой. Так и вышло. В спальню наш боксер вошел при наличии всех мужских сил и добродетелей, а на ринг поднялся уже как птица-подранок. И будь он хоть стервятником в кубе, но свой нокаут так и унес в раздевалку, где ждала его, чтобы снова утешить Ира, невестка резчика по кости и дереву Дода Лавандова.
Счет 2:0 в пользу Амдермы.
Положение критическое. Первому отыгрываться предстоит Эриху Эриксону, шведу русского происхождения. Для своих противников он очень неудобен – левша, причем, обладающий специфической манерой поведения на ринге. К нему сложно приспособиться. Его надо уметь «передумать». Но если это не получается, тогда будешь пропускать неожиданные удары. Что и произошло с Олегом Лапиным, солдатом из местной воинской части. Один нокдаун в первом раунде, второй - во втором, и проигрыш «техническим нокаутом».
Итак, результат 2:1. Но, к сожалению, не в нашу пользу.
На ринг поднимаются тяжеловесы. Третий помощник капитана Стас Карасик и сын Карского моря - смотритель маяка – Игорь Створ. С первой же секунды Игорь ринулся в атаку. Его мощные кулаки месили воздух, создавая непреодолимую преграду для соперника. На первый взгляд казалось, что штурман «Юрмалы» как-то сник, запертый в углу, и не способен найти ни одного достойного контрдовода, чтобы перехватить инициативу. Но тут с трибун, в знак поддержки, раздалось: «Ста-сик! Ка-ра-сик». И мне вспомнилось, именно под этот зычный зов в Стасе пробуждается необоримая сила, и он, сокрушая все на своем пути, идет к победе. Так и получилось. Стас ринулся вперед и в считанные минуты «раздавил» своего соперника, не оставив ему ни одного шанса на выигрыш.
Счет 2:2. Боевая ничья? Нет, последнее слово еще не сказано. И произнести его предстоит мне. Являясь «играющим тренером» команды, я секундировал нашим боксерам, и теперь, закончив со своими «заканатными» советами, шнурую перчатки и сам выхожу на серый квадрат. Судья-информатор заводит рекламную, привлекательную для болельщиков речь: «Финальная встреча нашего турнира, проводимого в честь столетия со дня рождения Ленина, пятидесятилетия возникновения бокса в Латвии и досрочного, приуроченного к взятию новых повышенных социалистических обязательств, открытия навигации. Сейчас раздастся удар гонга, и мы в ходе решающей схватки нашего турнира воочию увидим - чье море, Балтийское или Карское, позволительно будет отныне величать: «студеной матерью бокса».
Смешная фраза комментатора о «студеной матери бокса» врезалась мне в память. Хотя бы уже по той причине, что приливной волной Карского моря, как мне представлялось, еще не вынесло на ринг ни одного заметного чемпиона. И мне подумалось: разве можно сравнивать боксерские достижения Амдермы и Риги?
Первые поединки мастеров кожаной перчатки были проведены в Риге в августе 1920 года. Уже через год состоялось открытие первого чемпионата Латвии. Победителями стали Э. Гутманис, В. Хейнце, К. Томсон, Ж. Дзенис.
В довоенные годы боксеры Латвии вышли на международный уровень, участвовали в Олимпийских играх и первенстве Европы. Лучшим из них считался легковес Рихард Бертиньш, который, как рассказывали, провел на ринге 60 боев, и ни в одном из них не проиграл. Я его знал довольно хорошо, так как ни раз и ни два сражался с его воспитанниками из «Динамо». А вот перечень других известных боксеров Латвии тех времен: В. Клезбергс, Ф. Микуцкий, Ю. Дренгерс, Б. Долгицер, Я. Зултерс, К. Кясто, В. Матисон и прославленный легковес А. Книсис. В честь Арнольда Книсиса, чемпиона Прибалтики, погибшего при защите Москвы, в 1950 году был учрежден мемориальный международный турнир, на который в Ригу съезжались спортсмены со всего Союза и многих зарубежных стран.
С 1954 года латвийские мастера кожаной перчатки стали принимать участие в борьбе за звание чемпиона СССР. Некоторые из них поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета, другие стали серебряными медалистами или бронзовыми призерами. Это Имант Энкузис, Янис Ланцер, Яйя Асанов, Владимир Трепша, Янис Рович, Виестур Тераудс, Владимир Бодня, Юрий Ваулин. Самого большого успеха добился Алоиз Туминьш. В 1961 году в Белграде он завоевал золотую медаль чемпиона Европы в первом полусреднем весе, а через два года в Москве занял второе место.
У меня таких титулов не было. Но я представлял Ригу. Это придавало уверенности и не позволяло проигрывать. Хотя, конечно, наши желания зачастую расходятся с реальностью.
Боксерская же реальность такова: или ты бьешь, или бьют тебя. Механика известная. Но в ней потаенно скрывается маленькая пружинка, обнаруженная американскими теоретиками и практиками профессионального бокса в 1937 году во время матча-реванша: Джо Луис – Макс Шмерлинг, когда черный бомбардир в присутствии 70000 зрителей в самом начале первого раунда поверг «надежду третьего рейха» в тяжелый нокдаун, а затем и нокаутировал. Этот исторический бой, после которого Джо Луис правил на троне чемпиона мира еще 12 лет до 1949 года, длился всего две минуты и четыре секунды. В чем же его секрет? А в том, что на первых секундах, пока мышцы еще не эластичны, надо нанести противнику разящий удар, после которого, побывав в нокдауне, он не оправится в течение всей схватки. Учеными установлено, что пока боксер не разогреется до определенных кондиций в ходе поединка, он чрезвычайно болезненно воспринимает точные попадания в «убойные точки» и не способен быстро восстановиться.
Но мало обладать этими секретными сведениями, нужно ими и пользоваться качественно. А это я умел, и очень хорошо. Не зря ведь разработал свою личную тактику ведения боя, которая меня никогда не подводила. Как бы схватка ни складывалась, но первый удар был постоянно за мной. И этот удар достигал цели. Так и сейчас.
Гонг!
Я делаю исходные четыре шага по диагонали серого брезента: левой, правой, левой… Шаг четвертый. Но не вперед, а в сторону, вбок от выкинутой «на разведку» левой руки противника. И справа кроссом, через эту его левую руку, точно по челюсти.
- Стоп! - кричит рефери на ринге. И открывает счет: «один, два, три…».
Я отхожу в нейтральный угол. Смотрю в плавающие зрачки сбитого мной на брезентовый пол мужика, слежу за размеренным движением судейской руки, отмеряющей секунды, и думаю: у меня с дыхалкой тоже дело дрянь, мне нельзя затягивать.
- Бокс!
Пропускаю над собой «вражью» перчатку и, пригнувшись, наворачиваю справа по солнечному сплетению, добавляю, на выходе, левым боковым по голове, и завершаю серию коронкой своей - кроссом по челюсти - через руку противника.
- Стоп!
Нокаут…
Я не дал сопернику даже разогреться, воспользовавшись практическими рекомендациями короля чемпионов Джо Луиса.
Счет 3:2. В нашу пользу. Моряки «Юрмалы» отстояли честь Балтики.
Тогда, в 1970-ом, простившись в общем-то с боксом за несколько лет до этого, я и не полагал, что в 1978 году, перед отъездом в Израиль, снова выйду на ринг. Сгоню 19 килограмм, с 70 до 51, и верну себе звание чемпиона Латвии. А потом стану и израильским чемпионом, готовящимся к поездке на Московскую Олимпиаду 1980 года. Но так вышло, что западные страны отказались от участия в той Олимпиаде, и я вновь, теперь уже на 18 лет, позабыл о боксе. Вспомнить о нем мне «удалось» в 1998 году, когда исполнилось 53. Опять я скинул вес, с 70 до 54 килограмм, и пошел в бой.
С тех пор и воюю...
Теперь уже в качестве многократного чемпиона Иерусалима, где и отмечаю свое пятидесятилетие на ринге...
Рига, Мурманск, Североморск, Амдерма, Рига, Иерусалим
"Наша улица” №265 (12) декабрь 2021
Охраняется законом РФ об авторском праве
адрес
в интернете
(официальный сайт)
http://kuvaldn-nu.narod.ru/