Ефим Гаммер “Отражение, или Секретный код человечества" роман ассоциаций
"наша улица" ежемесячный литературный журнал
основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.
Ефим Гаммер
ОТРАЖЕНИЕ,
или СЕКРЕТНЫЙ КОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
роман ассоциаций
Ефим Гаммер
©Yefim Gammer, 2021

Рисунок Ефима Гаммера.
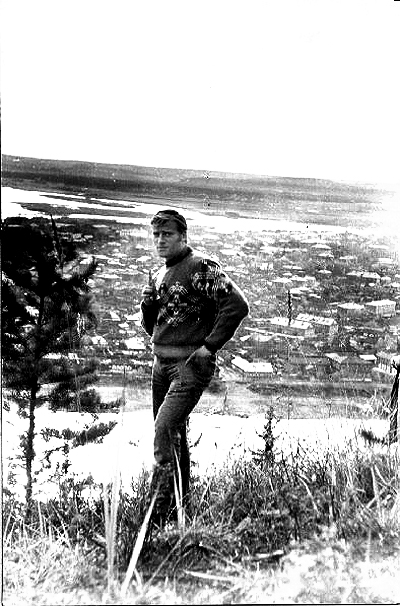
Ефим Гаммер - осень 1972 года - на фоне таежного города Киренска, расположенном на острове между Леной и Киренгой.
Пока России принадлежит Сибирь,
страна имеет огромный потенциал и
значение, и огромные богатства.
Фредерик Форсайт
Из интервью известного британского писателя, автора бестселлеров “День Шакала”, “Псы Войны”, “Досье ОДЕССА”, - Ирине Бороган (“Версия”), помещенном и в “Калейдоскопе”, еженедельном приложении
к израильской газете “Время”, 3 июня 2004 г.
Отступление первое
Старт этой истории был дан весной 1969 года, когда возле кинотеатра “Рига” я встретил первого помощника капитана латвийского парусника “Капелла” Анатолия Данилова. Только что его, по воле неведомых мне номенклатурных ветров, вынесло на журналистский фарватер, и он вместо штурманской рубки оказался в редакторском кабинете. Причем, не морской газеты - ею руководил Яков Мотель, - а сухопутной, рельсовой и семафорной, “Железнодорожника Прибалтики”.
Я неоднократно писал о “Капелле”, бригантине лебединой красоты и грации, где стажировались и проходили практику курсанты мореходного училища. Часто на ней бывал, выходил в рейсы, а говоря по-морскому, облазил ее, что называется, от киля до клотика. Так что знакомство с Анатолием Даниловым было у меня не шапочное, а устойчивое, более того, подкрепленное сотней-другой граммов забористого коньяка.
Новоиспеченный редактор, перекинутый с шаткой палубы в кожаное кресло, набирал боевитую команду разбойников пера. И, конечно, не догадываясь о том, что в штате “Латвийского моряка” я значусь всего лишь курьером, предложил мне заоблачную по сути своей должность - ответственного секретаря.
Ему и в голову не приходило: меня, недостойного из-за еврейского происхождения считаться для отдела кадров даже литсотрудником, никто не утвердит главным стратегом и организатором газетной полосы. Мне же это в голову приходило. Однако менять свою голову на чужую, хотя и партийную, желания не было. И я оставил идеологически неподкованного Данилова - все же еще моряк, не чернильная душа с вечным пером вместо сердца - в неведении о планах родного правительства по еврейскому вопросу, состоящих из трех “не”: не увольнять, не продвигать, не принимать. Правда, заинтересованность в предложении показал, и мы зашли в ближайшее кафе - обсудить детали и принять на грудь.
Слово за слово, в очередный раз охватив пальцами индюшечье горлышко графинчика, я целенаправленно, но не настойчиво, не вызывая подозрений, принялся выводить воспоминания моего собеседника к давнему пожару на “Капелле”, в секретных документах - “поджогу”.
В январе 1953-го этот “костерчик” взбудоражил всю Ригу, потом подзабылся. Но меня, тайного собирателя материалов о “деле врачей” и намерениях Сталина выслать всех евреев страны на Дальний Восток, он продолжал интриговать и весной 1969 года. Тем более, что искру, из которой возгорелось пламя, высек не кто-либо, а штурман Вовси, мой бывший сосед по Дому Петра Первого - Рига, Шкюню, 17, напротив Домского собора.
Восстановим хронологию событий.
13 января в газете “Правда” была помещена статья “Убийцы в белых халатах”.
14 января на борт “Капеллы” поднялись люди из ведомства Берии, чтобы арестовать старпома Александра Вовси, племянника, может, и однофамильца основного фигуранта по делу кремлевских заговорщиков-космополитов.
На вежливый стук в дверь из его каюты высунулись длинные языки пламени. И комитетчикам пришлось бороться не с инакомыслием, а как и всем прочим, включая Анатолия Данилова и его однокашников-курсантов, с огнем.
Когда же они справились с нежданной напастью, выяснилось: “Чиф” (на морском жаргоне - старпом) исчез-растворился. То ли выгорел дотла, не оставив обугленных костей на лежанке с одеялом верблюжьей шерсти. То ли выбрался, дымясь в прожигаемой искрами одежде, через иллюминатор на лед. И... Что - “и”? Или ускользнул, допустим... в желательном направлении - в полынью. Или в направлении совсем нежелательном - неведомо куда.
Недремлющее око по тем, вправленным в ГУЛАГ временам, не любило, чтобы от него ускользали неведомо куда. Помигало оно от огорчения, поморзячило по известному адресу красным огоньком и... И в папке под грифом “хранить вечно!” был похоронен протокол о сознательном, во избежание ареста, самоутоплении подо льдом Даугавы старшего помощника капитана учебного судна “Капелла” Александра Вовси, уличенного в преступных сношениях с Джойнтом и московскими профессорами вредительского толка.
Филькина грамота, написанная вилами на воде, не могла, разумеется, разъяснить ситуацию. Шли годы. Но положение не менялось. И в 1969-м, с той же степенью вероятности, как и шестнадцать лет ранее, никто не имел представления, что в действительности приключилось с Александром Вовси.
Мой расчет на Анатолия Данилова, в студенную зиму пятьдесят третьего практиканта-курсанта, тушившего с кегебешниками пожар, не оправдался.
Это выяснилось за рюмочкой - третьей? четвертой? - “Плиски”, развязывающей язык и угрюмым железнодорожникам, не то что общительным мореходам.
И, следовательно, тайна, которая окружала имя племянника профессора Вовси (либо однофамильца) и впрямь становилась достоянием вечности...
Но...
Но тут-то и начинается моя история...
Из-за того, что Яков Мотель, сам, хоть и редактор, но подотчетный властям еще больше, чем собственной жене, не переводил меня из курьеров в литсотрудники, я крупно повздорил с ним, уволился из “Латвийского моряка” и, покинув Ригу, поехал за романтикой, любовью и на заработки в Восточную Сибирь.
Там, в таежном городе Киренске, на острове, омываемом двумя реками, Леной и Киренгой, в районной газете “Ленские зори” я нашел себе любовь и пристанище. Здесь не интересовались моей национальностью и тем, имею ли я право числиться литературным сотрудником или не имею.
Сибиряков интересовало - умею ли я писать. На мое счастье, я писать умел. Этого было достаточно: меня на скоростях оформили в штат, и не каким-нибудь кочегаром-затейником, на умопомрачительную должность - “заведующий отделом промышленности и культуры”.
Оформили...
Их дело - оформлять, осознал я с чувством внутреннего достоинства.
Мое дело - писать, догадался по извечной изворотливости еврейского ума.
“Трое суток шагать, трое суток не спать - ради нескольких строчек в газете”.
Годится?
Годится!
Это по мне, шагать - не спать, гнать строку и вставлять фитиль нерасторопному тугодуму-конкуренту.
А что по мне, то любо и редакции.
Командировочное предписание в зубы - и катись по таежным падям, кедрачом и багульником поросшим. На пару-тройку дней. Когда и на неделю. В особенности, если подфартит и пристроят тебя вроде “живого” груза на вертолет. На нем в любую глушь заберешься - не заблудишься: хучь в потаенные дебри к охотникам на соболя, хучь к собирателям лекарственных трав.
Взгромоздился на вертолет, и забудь о земном своем, технологическом веке, выкормленном электричеством и дашавским газом: довезут, под свист и скрежет пропеллера, куда и за сто лет хождения по заповедным тропам не доберешься.
Лети и радуйся жизни. Строчи в блокнотике - что заблагорассудится, не думая о цензоре и проходимости в печать.
...Вот он, этот блокнотик передо мной.
Откроем его сегодня.
Откроем и унесемся в давнее далеко, в молодость унесемся.
Прочтем и не будем ничего исправлять.
Как было - так было.
Иначе..
Что “иначе”?
Иначе, думаю, в молодость не унесемся.
Итак, читаем...
1. В гостях хорошо, но дома...
Открылась мне сегодня тайна.... По размерам громадная. Почитай, с весь Киренский округ. А он в Восточной Сибири с Францию. Вровень с ним, с Францию, и тайна, открывшаяся мне. Хотя что... что далась нам эта Франция? С лица воду не пить.
Поделиться? Делюсь, я не жадный.
Какая самая популярная у нас здесь фамилия? Догадались? А? По всему чувствую, нет!
Не Иванов, нет! Не Петров, нет! И не Сидоров тоже. Красноштанов!
Причем, по паспорту он может быть якутом, монголом, бурятом, чукчей. Но чаще всего он русский, пусть родной язык и плохо разумеет.
На днях наша редакция получила секретную телеграмму из Москвы, такого приблизительно содержания: профессиональный охотник на соболя Албай Красноштанов представлен за меткость при попадании в глаз маленьких зверюшек к ордену Ленина.
Мне выделили персональный вертолет и дали распоряжение: без очерка о замечательном снайпере и не возвращайся. Я и не думал возвращаться без очерка.
На подлете к его сторожке пилот сбросил за борт шторм-трап, и я сошел на землю, как ангел, по веревочной лестнице. Вертолет же мой, персональный, отправился в дальнейший путь, по почтовым своим надобностям.
Герой моего очерка то ли прослышал, то ли нет о награждении, но пил, будто прослышал, - напропалую.
В углу его комнатенки стояло пять ящиков водки, один влитый в другой. С пола до потолка. В каждом - 24 бутылки.
Меня он приветил доброй улыбкой, настоенной на открытом русском лице, узких монгольских глазах и редкой, волосок в сантиметре от волоска, щетине чукчи.
- Входи, друг-человек, гостем будешь! Хочешь разговор, пожалуйста, - с открытым сердцем. Хочешь жену, бери, - с открытой душой. Друг-человек мне брат-человек. Что Бог послал - кушай-пей, чем жена богата - прими-возлюби.
От жены его - она выставляла на колченогом столе потроха каких-то местных лесных обитателей - я по скромности отказался.
Но от стакана водки, потом второго отказаться не смел.
- Пей, сынок! - ласково уговаривал меня охотник-орденоносец. А жена ему подпевала: “Пей, сынок, пей.” Полагала, ночь ей обеспечена. Все путем, все по закону. У них, этих таежников с кровью чукчи или якута - давнее, от предков, правило: гостю - открытое сердце, открытая душа, отдай в личную собственность все, на чем взгляд его остановится.
Водку в меня Албай Игнатович Красноштанов уже влил. Теперь пора и жену предложить. Пусть не на всю жизнь, на час-другой.. Но ведь и за час-другой от этой, не сексуальной, честно признаюсь, дамочки неопределенного возраста наберешься всяческих, совсем лишних для организма болезней.
После третьего стакана охотник уже насильно вталкивал мне на колени свою нержавеющую красавицу.
- Бери! Денег не стоит!
- Нет, - мямлил я, не могу, мол, без любви и дружбы.
- Бери!!! Такой обычай! Народы Севера, паря.
Видя мою нравственную неуступчивость, Албай Игнатович снял со стены, с гвоздя, свою знаменитую “тузовку”, винтовочку малокалиберную. И ствол навел на левый мой глаз, будто я уже соболь.
Но я был не соболь.
Я был еврей.
В этот, страшный для жизни момент я интуитивно вспомнил: никакого отношения к народам севера я не имею. Память спасла, и я принял, если взглянуть на меня внимательно сегодня, правильное решение.
- Я еврей, - сказал я. И читая недоумение в раскосине его прищуренных по-ленински глаз, добавил: - Есть такая нация! У нас другая традиция, паря. Дюже историческая! Мы на халяву берем не женами, а соболями. Это когда в гости приходим... э-э... к щедрому хозяину... э-э... паря ты... открытая душа... с винторезом под мышкой..
- Да? - растерялся Албай Красноштанов.
Слово об евреях ему и аист на хвосте не завозил - не порох, не водка, не соль, не спички - товар далеко не первой необходимости. Библию власть пустила на самокрутки еще до его рождения, антисемиты к нему при минус сорок не захаживали, вымирали на тропе познания чести и совести. Так что он предстал в собственном воображении, зашпринцованном алкогольным градусом, первооткрывателем новой народности. Орден у него уже в заначке, а тут подфартило еще и с докторской мантией - будет, на что этот орден повесить.
- За евреев! - сказал я и поднял стакан.
- Есть такая нация! - кивнул Албай Красноштанов и вытащил из наволочки, смастеренной под пуховую подушку, две искрящие антрацитным углем шкурки.
Без антисемитов, согласитесь, вольготно. В медвежьем углу, представьте, чувствуешь себя раскрепощенно и свободно, как, положим, в Израиле, где кругом одни евреи, а в кране есть вода, в банке деньги, в армии солдаты, сержанты, генералы - и все без кривых ружей, и никто не косит от службы.
- Будем жить, евреи! - пошел я по второй, испытывая неведомую на демонстрациях радость от провозглашения лозунгов.
- Врагу не сдается наш гордый “Варяг”! - поддержал декларатора заматерелый лесовик и перекинул мне пушные самородки, стоимостью рублей этак в триста-четыреста.
Я же от хмельного питья и царевой жизни, дарованной под слюдяным солнцем охотничьей сторожки, совсем расшалился и, понимая, здесь мне стыдиться происхождения не придется, нализался согласно веселию на Руси до положения риз.
Журналистский блокнотик я исчеркивал понятными только мне каракулями.
Избушку расцвечивал блицами. Затвор “Зенита Е” щелкал бесперебойно.
Водку глотал, не морщась. Песни пел матерные.
И не заметил, как Албай Игнатович стал раздваиваться. А когда заметил, начал с ними, с обоими Албаями, чокаться и пить на брудершафт. Опрокинув граммульку со вторым Албаем, вернулся к первому. Сравнил: ан нет, не одно лицо - слева округлое, морщинистое, справа - лошадиной конфигурации, с усищами, как у моржа. С животом - на две полши с прицепом в дюжину пива.
Ба! Да это Жорка-летун. Возвернулся, видать. В самый разливной час. Почту разбросал по становищам, и сюда - орден обмывать! Пострел везде поспел! Вот я ему и пропел, ясно и козе, не из Лебедева-Кумача, не во благо маршевых рядов. Из потаенного, домашнего приготовления, когда - “Я другой такой страны не знаю” - имеет прямое отношение к Руси-матушке, а не к запредельной Юрмале с целебным для сердечников морским и сосново-янтарным воздухом, “где так вольно дышит человек”.
“Вертолетчик ты мой, рубель-летчик.
Как твоя керогазка цела?
До какой из заоблачных точек
за пол-литром людей понесла?”
К моменту вылета, выгребая по зорьке на посадку, я заметил, что и вертолет набрался до отключки: лопасти качались, точно пьяные матросы на шаткой палубе, мотор чихал и отплевывался, будто вот-вот блеванет.
Жорка взгромоздился в кожаное, подпрыгивающее как на рессорах кресло водилы, вытер усища тыльной стороной ладони, зычно, словно он Чкалов из довоенного фильма, провозгласил: “От винта!”, потом добавил из Пахмутовой и Добронравова по-Гагарински: “Он сказал - “поехали” и...”
“И положил на всех.”, - доходчиво подсказал я.
- А то! - весело заметил Жорка.
Штурвал на себя, и минуту спустя он на пару с матерком поднял усыпляющую ритмичным покачиванием люльку в воздух, взял курс восточнее, в сторону сопок, на лагерь геологов, ищущих какую-то мифическую, небывало богатую Золотую жилу Сибири. По поверью, она проходит чуть ли не по поверхности земли и не далее чем в трехстах километрах за Киренском. Но места там нехоженные, лешим и водяным оберегаемые, поднадзорные, как в глухую старину по неписаному правилу бирючьей жизни: тайга - закон, медведь хозяин...
2. Старатель
...Я очнулся. Вдали догорал “почтарь”. Заломленные лопасти жалко поскрипывали на ветру. Утренник порывисто раздувал огонь, метил мою продымленную одежду колкими искорками. Вероятно, от их колючих укусов я и пришел в себя.
- Жорка! Жорка!!! - позвал я.
Ни звука в ответ.
- Жорка, мать твою!..
Тщетно.
Искореженное железо, охваченное затухающим пламенем, раскаленно постанывало - не подпускало, захоти даже покопаться в его механических внутренностях. Громыхнул взрыв, и все стихло, только опаленная хвоя осыпала на луговину пахнущие йодом иглы кедрача.
Невдалеке я приметил ручей. Решил пробираться к нему. Но подняться - ни в какую, слабо мудаку опереться на правую ногу. Догадался - “вывихнута”. Резкая боль, как подсечкой, сбила меня наземь. Я упал на спину. Запрокинутыми за голову руками цеплялся за стебли кустов и попробовал ползти к ручью. Разрыв-трава помогала как валик. Она скользила под лопатками и выхлестывала сзади.
Полусмертное в своей безысходности состояние. А все, что окрест, слышится, воспринимается, контролируется разумом. Перешептывание голубичника с багульником. Неторопкий перестук дятла, выговаривающего неведо кому, если не мне укоризну: “так его! так его!” А подними глаза к небу, гляди, там в частоколе ветвей болтливая ронжа, таежная сплетница, любительница подсматривать за чужими мучениями. Стерва, подглядывает и за мной. Зрячие ее бусинки посверкивают любопытством. Вот сейчас взмахнет крыльями и понесет новость по своей глухомани, зачастит на птичьем языке: “Свежее сообщение для рубрики “Пьянству - бой!”
“Ох и налетаться тебе предстоит, коллега! Надорвешься от крика - телеграфа-то нет!” - подумал я некстати и усмехнулся. У меня тоже телеграфа нет. Да и рации. Да и Жорки-летуна, надо полагать... Никого нет... Да и меня самого, наверное, теперь, после крушения вертолета, тоже нет. Ни для кого... Ничего... от меня не осталось... ни для кого... Се-ла-ви, как говорят французы, но совсем по иному поводу, в случае, если в семье у них рождается невзначай негритенок...
Я попытался стянуть через голову свитер, травящий легкие гарью и сковывающий движения. И тут, когда с усилием приподнялся, на плечо мое легла тяжелая рука.
- Паря!.. без этого... надорвешься! - басовитая хрипотца остановила мою борьбу с липкой от пота одеждой.
Я уставился на незнакомца, неведомо откуда возникшего передо мной.
Здоровенный бугай, под метр девяносто, заросший буро-серебристой бородой, с длинными, сединой побитыми волосами, перехваченными по лбу тесемкой, сплетенной из трав, с вкраплениями мелких цветков. Под ней - символом третьего глаза, что ли? - высвечивала золотистого отлива медаль с изображением человека. Одет он был в лосиную доху, но не магазинную, ширпотребную. Без тканного шелком по вороту и обшлагу узора разных оттенков радуги, не отороченную беличьими хвостами, грубую, самодельную, будто выкроенную по наитию, а не по лекалу.
- Ты - кто? - спросил я.
- Хозяин...
- Чего-чего?
- “Человек проходит как хозяин необъятной родины своей.” Не слышал?
- Слышал. Но сейчас это не поют.
- Оскудела родина на человека?
- Сейчас поют - “Ландыши...” Ты сегодня мне принес не букетик вшивых роз, а совсем простые ландыши. Ландыши, ландыши - женский цветок, бабьего лета привет...
- У нас тут без баб. А что до лета... Зима-лето, лето-зима, все одна сатана, без сроков и зачетов по выработке.
- Из зэков? Слышал: там, за бугром, в Катанге, Сталин чуть ли не весь район замастырил сплошняком в лагерь. Хрущев проволоку снял, Брежнев сказал: “Живи! Но в столицы не рыпайся!”
- Что слышал, то и забудь. А то припомнят - “слышал”. И заруби: кум - тайге не хозяин.
- Расконвоированный?
- Старатель.
Таежный скиталец присел на корточки и, придерживая меня за колено, стянул с правой ноги унт, сшитый из обычного сапога, обтянутого по голенищу собачьим мехом. Распорол штанину ножом.
- Ого! - удовлетворенно произнес в густой волос бороды. - Эко тебя потрепало, баллов на восемь. Но ничего, держись, “мастер”, мы тебя с рифа сдернем.
И дернул, черт, так дернул за пятку, что брызги из глаз, в ноздрях пар, а в штанах мокро.
- Ух-х! - выдохнул я от неожиданности.
Незнакомец взвалил меня на плечо и, сопровождаемый зубным скрежетом и постаныванием, двинулся в путь, грузно ступая по податливому зеленому насту.
Сквозь кипень мозгов до меня глухо доносилось:
- Береги косточки, “мастер”. Растрясу. На суше мили на километры мерят, по-мужицки. А километры - тряские, холера! Держись!
Увесистая лапа добытчика легла мне на крестец и ершистый лосиный ворс опалил щеку.
Я держался, сколько мог. До... провала памяти.
3. Таинственная медаль
Тяжкие удары колуна раскололи дремотную тишину. Я открыл глаза. Осмотрелся, не сдвигаясь с лежака. Надо мной потолок, в замысловатых тенях, расцвечиваемый коптящими фитильками, плавающими в дурно пахнущем жире. Громоздкая печь, выложенная из валунов, пыхтела, переваривая смолистые чурки. В углу бивни мамонта - зловеще скалящиеся костяные дуги. В центре стол с искрящим светильником. Срублен из расколотых стволов. Вместо стульев по периметру от стола расставлены двухохватные чурбаки, массивные, тяжеленные, как и все в этом матером зимовье.
На одном из них, у моей левой руки, находился березовый туесок с какой-то маслянистой жидкостью. Пригубив, я догадался: медовая настойка.
Проснулся я освежевшим, с ощущением прибытка сил, разносимого во мне каким-то непонятным, колдовского звучания, голосом. Вроде бы моим собственным, но по рождению телепатическим. “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради”.
С некоторой оторопью подумал: “Десять заповедей.” Откуда здесь Библия? Где проигрыватель? Пластинки?
Протянул руку ко лбу. Ну да, вот она, пластинка, если ее угодно так называть.
Ко лбу моему на травяной тесемочке была прикреплена медаль - копия (или же она самая?) той, что я видел давеча у Старателя. В неверном свете маслянистой плошки, попыхивающей над головой, различалось изображение бородатого человека с раскиданными в сторону руками (ладони открыты в знак мира) и широко расставленными ногами. Помните “золотое сечение” Леонардо да Винчи? Ассоциативно, нечто подобное. Но мой целитель был вписан не в квадрат, а в Маген-Давид. И это уже странно. Ибо евреям нельзя воссоздавать Образ и Подобие... Нет-нет, вспомнил я, запрет касается скульптурного портрета, нельзя творить, как говорится, идолов и кумиров. А рисовать, гравировать... это не возбраняется Законом, полученным на горе Синай.
Вспомнив о наставлениях дедушки Фройки, я продолжил изучение таинственной медали. На ней, в нижнем углу перевернутого треугольника распознавалась наша планетарная система - Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Луна, а по окружности диска, стартуя от небесной схемы, бежали иероглифы, либо неясного содержания математические формулы.
Тот же набор рисунков был помещен на оборотной стороне медали. Различия не очень-то выделялись. Однако, присмотревшись, я нашел два несходства. Лоб “оборотного” человека украшала медаль, а в ногах его, в нижнем углу перевернутого треугольника, имелась иная схема - то ли звездного неба, то ли эзотерическая. Познания морского журналиста в навигации, а тем более в эзотерике, не слишком обширны. Мне хватало и того, что я не понаслышке знал о даровании евреям Торы, о десяти заповедях, из них семь для иноверцев, видел, как выглядит Сидур и буквы древнего языка.
Отступление второе
С малолетства, пока - в пятьдесят четвертом, в апреле, перед приемом в пионеры - не воспротивились в школе, меня водили в синагогу. По субботам утреннюю молитву я зачастую проводил подле дедушки Фройки, в нашей квартире, на Аудею, 10, в Риге. И вместе с ним, по окончании молитвы, произносил наши родовые имена, от моего и дальше - Аарон, Фроим, вглубь веков - Арн-Берш, Борух, Аарон, до исхода из Испании, где предки мои, великие мастера Толедо, чеканили рыцарские доспехи, и дальше, до Соломона Мудрого, эпохи Первого Храма - “Шломо Хохам, ба ткуфа Баит Аришон” - и дальше-дальше, до отца его, царя Давида, основоположника нашей династии.
По преданию, как мне растолковывал дедушка Фройка, папин папа, родившийся аж в 1870 году, вместе с Лениным, и переживший его на символические тридцать три года, потомки Давида друг с другом не связаны. Они раскиданы по земле-матушке с таким расчетом, дабы, несмотря на вековечные гонения, погромы и даже Холокост, род избранных из них, точнее, уцелевших, не пресекся, ибо он явит людям Мессию. Когда? Кого? В каком возрасте? Все это тайна, подлежащая сокрытию для человеческого ума. Иначе “в условленный срок” или “в указанном месте” начнут объявляться самозванцы “отличительного возраста”. К чему это приведет? Нетрудно догадаться. Скорее всего, к новым погромам и гонениям. Так что потомок Давида, не раскрываясь любопытствующему, должен нести свое сокровенное по жизни, уповать на Всевышнего и обнаруживать в повседневном Его пояснительные знаки.
Иллюстрацией к сказанному - чем не пояснительный знак Всевышнего? - служила история нашей семьи, последняя строчка в ней вписана мной. По соображениям древнего знатока Торы, лестным для пацаненка с чесучими кулаками и развитой фантазией, я считался самым необыкновенным мальчиком в рижской синагоге, образца 1953 года. Почему необыкновенным? Потому что у меня, единственного, пояснял он мне, малосведущему в замыслах Гитлера, живы и здравы оба еврейских дедушки и обе еврейские бабушки. Ни у кого ничего подобного в Риге той поры не было - в “расстрельных” лесах Румбулы истреблено почти все еврейское население города. Ни у кого э т о г о не было. А у меня было. Не чудо ли э т о? Чудо!
“...Но чудо в одиночку не ходит, - говаривал мне о “пояснительных знаках” дедушка Фройка, переживший не только своего башковитого ровесника, но и его продвинутого в математике ученика, высчитывающего на обличающих пальцах пятилетку в три года. - Сегодня, когда вождя всех народов положили уже рядом с его учителем в науке побеждать на вечное хранение в их главный ломбард - в Мавзолей, оно ходит... присмотрись, внучек... на ногах твоего папы Арона”.
Незадолго до смерти Сталина, в разгар дела об “убийцах в белых халатах”, моего папу Арона, жестянщика второго цеха завода №85 ГВФ, объявили вредителем. В годы войны его награждали медалями. В сорок восьмом одарили золотым нагрудным знаком “Отличник Аэрофлота”. В пятьдесят третьем вывели в государственные преступники. А продукцию он выпускал ту же самую - авиационные баки. Ныне, видите ли, некачественные. Вот она, причина! Хотя, конечно, имели возможность инкриминировать и сочинение, плюс исполнение на аккордеоне, в концертах и на танцах, в присутствии посторонних, разумеется, националистической музыки - фрейлехсов.
“Баки текут!” - сказали папе спецы из приемной комиссии.
У него отобрали пропуск, чтобы он в ходе следствия не проник тайком, по-шпионски, на завод, не добрался до охраняемых поддатым вохровцем баков - секретная технология, не трали-вали! - и не запаял их наощупь, чтобы скрыть следы своей преступной деятельности. Папу посадили под домашний арест. Вот он и сидел, грустный, в одной компании со всеми нами, в ожидании повестки и судебного разбирательства. А дальше... Дальше у евреев случился запланированный праздник Пурим, а у Сталина незапланированный инсульт. И пошли чудеса. Вселенского масштаба. И малоприметного для окружающего мира, но оттого не менее ценные, личные. Чудеса, а в подверстку к ним, для посвященных, “пояснительные знаки”. Надобность в “убийцах в белых халатах” да евреях-вредителях отпала. Повестка в суд затерялась в дороге. Авиационные баки каким-то невероятным образом перестали течь. Папе выдали бессрочный пропуск на завод, Сталину, с той же отметкой - “хранить вечно!” - в Мавзолей. И они разошлись по своим рабочим местам.
Но чудо спасения продолжало ходить на папиных ногах, и несло его, спасая от невзгод и болезней, пока не вывело в Израиль. Затем и в Израиле, где мой брат Борис, профессор Иерусалимской академии музыки, джазовый саксофонист, кларнетист и оранжировщик, переозвучил на модерный лад его фрейлехсы. И повез их на международный фестиваль диксилендов в Сокраменто - США.
“Фур-рор, - как говорил папа, - был большой. Оркестрантов не отпускали со сцены. Аплодисменты переходили в “авиацию”. - (Так на профессиональный манер, не опасаясь уже обвинения во вредительстве даже от ревнителей чистоты языка из еврейского союза русскоязычных писателей Израиля, бывший самолетостроитель перекраивал “овацию”.) - И никто из американцев не догадывался, - продолжал папа, - что музыкальный младенец - это еще тот вундеркинд! Он издавал свои первые звуки еще на довоенном одесском Толчке, когда там все еще было, и в парке Шевченко, на танцах, и на концертных вечерах в городском Летнем театре. Младенцу не день рождения надо справлять, а форменный юбилей. Пятьдесят лет, как одна копеечка!”
Умер папа в Израиле, в Кирьят - Гате, всего за три дня до 88-летия. 9 мая 2001 года. В День Победы. Ровно сорок лет спустя - еврейский мистический срок! - после смерти своего тестя, моего дедушки со стороны мамы Ривы, также как и он, да и другие мои родственники, коренного одессита Аврума Вербовского. (Дедушка Аврум покоится на Рижском еврейском кладбище. Старый солдат, инвалид Первой мировой войны, прошедший через все ужасы ГУЛАГа, не дожил до репатриации в Израиль).
4. Чеховские чтения
Отворив ударом ноги дверь, в светлицу с охапкой поленьев вошел Старатель. Несколько тяжеловесных шагов, и он со стуком сгрузил дрова у печи. Обернулся.
- Ну, как, ”мастер”? Очухался? Киль не беспокоит?
Я откинул оленью шкуру, служащую одеялом, выставил на обозрение ногу с синим кровоподтеком, на удивление, почти не саднящую.
- Вроде, нет, - сказал со скользящим в голосе недоумением.
- Благодарю за службу, паря!
- Это мне надо благодарить вас! - вырвалось у меня.
- Полно! Полно! Не подыхать же тебе, перевернутому вниз клотиком.
Мой спаситель собрался было на выход за очередной вязанкой. Но я его остановил.
- Извините, я не представился. А то вы мне... - Я смущенно хмыкнул...
- А - а... - засмеялся незнакомец. - Чи? С Запада, с Зауралья? “Паря” тебе не по вкусу. “Мастер” - не в протык мозгов.
- Почему же? - обиделся я. - “Паря”... Я же, друг-человек, сибирской закалки журналист. Из Киренска, газета “Ленские зори”. А “мастер”... на морском сленге - “капитан”. Оки-доки, “маркони”? - (так на торговом флоте называют судового радиста.)
- Ого! Не иначе, ты котерман.
Котерман - это, как мне было хорошо известно, - добрый корабельный дух Балтики, вселяющийся по древнему морскому поверью в любую мало-мальски пригодную для плаваний посудину.
- Кью - ес - кью, - отбил я по памяти морзянку, традиционно завершающую радиограммы, значит она нечто вроде “благодарю за связь”.
- Лады, “мастер”. Кью - ес - кью... Переходи, позволяю, на прием по корешам - на “ты”.
- А как тебя звать “по корешам”?
- Зови, как и прежде, “Старатель”. Не ошибешься.
- А меня...
- Не надо, - поспешно перебил меня Старатель. - Много знать - лишку сболтнуть, а от сумы и тюрьмы... так-то, “мастер”.
- Но мы же - друзья, я полагаю.
- Ты журналист?
- А то! - ответил я с вызовом.
- Знаешь ли ты, журналист, кого больше всего опасался Антон Павлович Чехов?
- Ну?
- Провинциальных репортеров, люба!
- Не боись! Я не провинциальный! - взорвалось во мне. - Я из самой Риги, Маленького Парижа. Слышал, небось. Там мили на километры не мерят.
- Да? - Старатель вздрогнул, словно от неожиданного удара. И посмотрел на меня совсем по-новому, с живым, не таким как раньше, интересом.
- “Латвийский моряк”, - представился я, приподнимаясь на койке. - Собственный корреспондент. По независимым, но вполне личным причинам, осваиваю сухопутную романтику.
- Морская приелась?
- Обстоятельства... - невразумительно пояснил я.
- Обстоятельства - выше нас, - согласился со мной таежный житель, скрывающий под внешним обликом пещерного человека неординарную начитанность и образованность.
Он шагнул к выходу. Остановился. Посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать. Но промолчал... Понурив плечи, двинулся за порог и на выходе громко шлепнул дверью о косяк.
По всему видно, донимала его какая-то старая житейская язва. Может, беглый он... Может, травленный... Может, ищущий самого себя, но без содействия милиции...
Опять загукал топор, круша кряжистые чурбаки. Пахло смолистым деревом и кедровым орехом. К сердцу подступало ощущение тепла и безопасности. На потолке, под моцартовскую флейту, в немых монологах лицедействовал театр теней.
Я чувствовал: вот-вот усну.
Мне представлялось: сонливость выступает из таинственной медали, помещенной у меня на лбу, и охватывает меня, охватывает, убаюкивая....
Я снял ее и, борясь с дремотой, стал снова изучать. Но ничего дополнительного для себя не открыл, хотя даже попробовал “на зуб”, по стародавнему способу определяя: золотая ли? На вкус, если таким опытным путем определяться в изысканиях, медаль была изготовлена не из золота, а из какого-нибудь внешне похожего на него сплава, либо стекла, либо пластика...
5. День и ночь - сутки прочь
Из стенной продушины пыхнуло ночной прохладой. Я озабоченно завертелся на лежаке, натягивая до подбородка оленью шкуру. Осмотрелся. У печи угадывалась громоздкая, как шкаф, фигура Старателя.
Дальние, тускнеющие на зорьке звезды заглядывали в приоткрытое оконце. Озноблые лучи щекотно шарили по лицу, высвечивали на чурбаке туесок с медовой настойкой, но не доискивались протопленного угла, где храпко досыпал мой спаситель.
Угонистый ветришко, в согласии с писаниями сибирских литераторов, шаловливо заскакивал в пятистенок, шебуршал в одежде, висящей над печью и, умаясь, стихал.
Утрело... На кораблях в это время бьют склянки, и первая вахта заступает на службу. Я без понятия, передались ли мои мысли Старателю, но он нервно задвигался и, выбрасывая басовитые слова, перекатился с боку на бок, лицом ко мне. Его руки, хорошо уже различимые, вели между собой непонятную, и оттого какую-то зловещую борьбу. Правая скрюченными пальцами ухватила кисть левой и свирепо дергала ее на себя, словно стремилась вырвать из плечевого сустава. И вдруг, осознав тщетность своих усилий, отпустила ее и тотчас нанесла удар кулаком. Куда? В никуда. В воздух. Был бы Старатель боксером... Но он не боксер... И что это за “бой с тенью” - лежа? в пору петушиных криков?
Спросонья таежник вскочил на ноги. Ошалело вертя головой, он мало-помалу приходил в себя. Столкнувшись с моим взглядом, виновато бросил:
- Чертовщина!
- Провинциальные репортеры?
Шутки Старатель не принял.
- Руку отлежал, - сказал в оправдание. - Вишь ли, она - стерва! - на глотке пригрелась. Глотку я чувствовал. А ее - нет. Ну и... глоткой сквозь сон почувствовал - душат! душат, гады! Ну и... - Он виновато махнул рукой. - А ты дрыхни, чертяга. Чего тебе?..
Я беспокойно заворочился.
- Ищут, поди, меня.
- Никто тебя не ищет, “мастер”. Полетали над твоим корытом, позырили с верхотуры - винтики, гаечки да обугленные угольки из костей. Я там волчьи просыпал на обозрение пентюхов. Словом, не гоношись, списали тебя с баланса. А ты, даром что списанный, живи-лечись. Медаль не снимай - целительная.
- Ты меня - что? в без вести пропавшие?
- Паря! Не шебурши языком по-пустому. Оклимаешься, выведу к бакену, и топай дальше своим ходом.
- А что людей приведу - не боишься?
- Не приведешь.
- Доверяешь?
- Человеку не доверяю. Медали доверяю.
- Чего так?
- Она тебя правде-совести учит. Не убий. Не укради. А шире... не предавай, заодно и не делай подлостей.
- Десять заповедей. Кто их не читал в Библии? И что? Не убивают? Не воруют? Всего несколько заветов, и те выполнить не могут, а называют себя Венцом Творения.
- Если бы ты знал... И всю Тору можно выложить всего в несколько слов - “не делай другому то, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе”.
- Кто сказал?
- Рамбам!..
- ?
Видя мое недоумение, Старатель усмехнулся:
- Не знаком с таким мудрецом? Все бы тебе чужие лоции, а?
- Брось! Я просто о заповедях. Их все знают, чуть ли не наизусть, а толку-то, толку...
- Не тушуйся, “мастер”. Ты сейчас напрямки идешь. “Другим путем”... но напрямки... по своей лоции. Медаль ведь не учит тебя, дурака. Пропитывает заповедями. У тебя даже в мыслях не возникнет желание выдать меня властям, дать им адресную указку. Сколько людей тут перебывало! Кто во имя золота, кто ради охотничьего промысла. И никто... никогда... уходя... не вывел на мой след ищеек. Я береженый.
- Береженого Бог бережет, - подсказал я из народных поверий.
- А кто тебе сказал, что медаль - не Божьих рук дело?
Я закусил губу. “Сумасшедший?”
Старатель радостно охнул, приметив мою реакцию.
- Напугал, никак? Зря! Сам разберешься с медалью. А что касаемо человека... Человека понимать с первого осмотра надо. Жрать захочешь... - легким движением ноги он вытолкнул из-под стола короб с солониной. - А я... я... - он хохотнул, словно вспомнил анекдот, - тоже пойду “другим путем”. Ты - “другим”, из Риги в Сибирь. Я “другим” - от штурвала к ухвату с чугунком. Все путем, все путем, паря! Мне силки на зверя ставить пора, а то... зимы тут морозные, иной раз носа из зимовья не высунешь. Бывай и не кашляй!
Затворив за собой входную дверь, он подпер ее останцем молодого кедрового ствола с комлем и удовлетворенно прогудел:
- Поставил тебя на якорь, “мастер”. Не дрейфь!
6. Таежный смотритель
Затворничество тяготило. Томительно долго в стенном прорубе стлались низкие облака, закрывали мутной заволочью солнце.
Птичье попискивание внезапно смолкло. Густой медвежий рев наложил на него свою мохнатую лапу и сгреб в никуда. В одночасье лесная жизнь поскучнела - таежный смотритель обходил дозором свои владения, выгадывая к человечьему, вкусовому, пахнущему вяленой рыбой и копченым мясом жилью.
Разглядеть зверюгу из оконца мне не подфартило. Но не зря говорят: у страха глаза велики. Я представлял Косолапого внутренним зрением более, что ли, пугливым. Этакий... ну, как снежный человек... Весь из себя - симбиоз мышц и шерсти, нечто вроде кучи булыжника, обернутой бронированной шкурой. Матерый, оголодавший, с провалившимся брюхом. С вилами на такого не ходить. Дробиной такого не бить. А тут под рукой не то что дробины, путного ножа не сыскать. Хотя... нож мне тоже без надобности. Вот “тулку” бы о два ствола да парочку к ним жаканов! Но чего нет, того нет. А надумай медведь ввалиться в избу, чем обороняться? Палкой от веника? Поленом? Колотушкой или супной ложкой? Чем? Мамонтовыми бивнями, что скелетным светом лучатся в углу? Это по мне свет скелетный, отталкивающий, по ассоциации со звуковым фоном. А Бурому? Ему, наоборот, свет такой в радость. А бивни для него притягательны. Душком живности. Не выветривается он для охочих до крови ноздрей, почитай, и за тысячу лет.
Бурый, судя по рыку, обошел зимовье. Дробный бревнопад, затем послышалось чавканье: отыскал, стервец, поживу, разнес по ветру медовый дых.
Что дальше?
А дальше - от озноба в поджилках, что ли? - чередой пригрезилось мне всякое, читанное о диком животном мире. Но ничего о медведях, кроме цирковой присказки: мол, умны, послушны и податливы дрессировке.
Что же в действительности у этого мохнатого “умника” на уме, не дознаешься. Не укротитель. Урчит себе и урчит, мед лапой зачерпывает. А в “книжной” памяти моей - ничего “медвежьего”, пригодного для выправления поганого моего положения.
В минуты незапланированного рандеву с Дядюшкой-Зверем заполонили память не четвероногие, а ползучие твари. Нет, библейский Змий тут не причем. Он не для стрессовой ситуации. Но товарки его кусачие, из Брема, те - да! - повыползли из-под валежника и давай жалить ненужными знаниями.
Вспомнилось, змеи на близком расстоянии ориентируются с помощью терморегулятора. Они атакуют подвижный источник теплового излучения. Поэтому стоит, положим, замереть, перехватив дыхание, и паскудная тварь, ползая по тебе, не то что не укусит, не обратит на тебя, полумертвого от ужаса, даже своего гадючьего внимания.
Но такая квадратура круга со змеями. А при обращении с Хозяином тайги - помогает как мертвому припарки.
Замереть? Я и без того обмер.
Не дышать? А укажите мне пальцем - кто осмеливается дышать в этом одноэтажном срубе?
Стол? Чурбаки? Мамонтовы бивни? Печь? О, да, печь дышит, правда, едва дышит - вся выгорела, поди. Солонина? Вяленая рыба? Кто? Если напрячься - прислушаться... кто? Никто! Ей Богу, никто! Ни здесь, в становище, ни окрест, метров за сто-двести. Никто! Слава тебе, Господи, никто! Чавканье стихло. Ни рыка, ни довольного урчания. Ау! Косолапый? Где ты? Ау! Куда запропал? А... запропал? Запропал - не показывайся! Пошел к черту, морда нерусская! А то заразишь!
И тут, совсем некстати, когда виновник моих душевных страданий удалился в глубь чащобы, вспомнилось о медвежьей болезни. Если мохнатого разбойника, открылось мне с опозданием из книжек и фильмов, внезапно напугать, он от страха обделывается по полной. Моя реакция на недавнее испытание грозила оказаться похожей. Но хрипотца Старателя ударила по барабанным перепонкам, и в одно мгновение - я уже не один! - вызволила из кошмариков брожения желудочных соков.
Я повернулся от оконного проема к двери.
- За румпелем спокойней? - засмеялся таежник.
Я неопределенно пожал плечами, прислушиваясь: не бурчит ли в животе? Вроде бы, нет. Отошло.
- Спокойней на камбузе, у котла с приварком, - бросил с вымеренной независимостью.
Старатель присел ко мне на лежак. Коротко, не утруждая себя, пояснил обстановку.
- Прости, не предупредил. Боцман Михай иногда к нам наведывается. Малый - шалун, с воровскими замашками. Любит - чего повкуснее. Нет-нет, - машинально повел ладонями из стороны в сторону, упреждая естественный вопрос. - Человечинкой не интересуется. Так что окорочек свой на солнышке не копти, не понадобится.
И с тем же несколько хрипучим смехом он прикрыл меня до подбородка меховым пледом.
- Спи, работник умственного труда!
Но какой сон?
Старатель прошел к коробу с продовольственным припасом. С удивлением поднял на меня глаза.
- А ты ведь не жравши. Чего так? Стесняешься? Голодом кормиться - лучше удавиться, паря, - и перекинул мне оленью лопатку. - Похрумкай с устатку, а к вечеру - приглашаю! - банкет заделаем, как в лучших домах Филадельфии.
- Чего там подают? - прошамкал я, впиваясь зубами в мясо.
- Жареная птица.
- Экая невидаль.
- С водярой для трезвенников и белой горячкой для их антиподов.
- Ты антипод?
- Я трезвенник... пока еще... по воле судеб и раскладу обстоятельств.
- А-а... - вскинулся я, чуть челюсть не вывихнул. - Откуда?
- От верблюда! Твоя?
Таежник вытащил из-за пазухи плоскую алюминиевую флягу, граммов на восемьсот, наполненную под пробку незадолго до вылета щедрым на выпивку Албаем Красноштановым. Для сохранности, как припоминается, я угнездил ее в боковом кармане куртки. Что с ней сталось впоследствии - пригубили напару с Жоркой? Ополовинили? - выветрилось из мозгов.
Спиртовая посудина покрепче моих мозгов оказалась, из нее достойное содержимое не выветрилось. Это Старатель продемонстрировал мне во весь зубастый рот: отвинтил колпачок, глотнул, крякнул и утерся рукавом.
- Хорошо пошла!
Я протянул руку.
- Со мной она ходить тоже не разучилась.
- На четырех ножках?
- Ну! - возмутился я, хотя представлял, как разило от меня сивухой давеча, когда Старатель волок меня к зимовью.
Отпив из фляжки, я облегченно вздохнул. Чуть было не вырвалось: “Жорку-летуна нам бы на третьего...” И грустно потупился: почувствовал неловкость, то ли вину какую-то - кто растолкует? Однако, ежели на третьего нет никого, значит, и толкователей нет.
Молча я вернул фляжку Старателю.
Он задрал бороду, приложился к горлышку. Кадык его растревоженно вздрогнул.
Разгоряченный спиртным, жадно вгрызся в мясо.
- Пища богов! Еще будешь?
Я мотнул головой.
- Ладно! У меня в рундучке полно всего этого. Не тушуйся - бери. - Неожиданно он замялся, словно донимало его что-то, но “что” до поры до времени разглашать себе дороже - тайна о двух сургучных печатях! Он пытливо взглянул на меня, изучая. Наконец, спросил: - Ночью я ничего такого? Когда руку отлежал... Спросонья... Не базлал лишняку?
- Ничего такого...
- Тогда спи. А я пойду костерок запалю...
Хлопнул дверью, вышел во двор, распевая: “Погибать нам рановато, есть у нас еще дома дела.”
Потом - удары колуна, треск сучковатых поленьев, скорострелка смолистой лучины, попыхивание огня. И над всем этим:
- Банкет, бля! Не хухры-мухры, как в лучших домах Филадельфии! Ешь ананасы, рябчиков жуй, в день свой последний танцуй и гужуй!..
7. Моряки - в “бичи”, корабли - на “гвозди”
Ввечеру, когда неохватные пихты и кедры сомкнулись за окнами в строю великаньего войска, Старатель раскладывал на столе заготовленные к ночной осаде “боеприпасы”. Прожаренные до хруста в косточках рябчики соседствовали с кореньями и ягодами, а в центре, будто увенчивая короной царское пиршество, возвышалась моя фляга-поительница.
- Садись! - пригласил меня хозяин.
И подождав, пока я устроюсь на чурбаке и положу себе в посудину мясной приварок, разлил по стопарям.
- За что пьем? - спросил я.
- За маму, за папу, и за Него, за Создателя! - не задумываясь, ответил Старатель. - Или?.. Тебе тост подавай пораскидистей и со значением, да?
- А то!
Я радел выпить за него, за Человека, по моим понятиям, с большой буквы, за спасительную встречу, за доброту и помощь. Но Старатель не позволил распогодиться в чувствах признательности. Небрежно чокнулся со мной и...
- Как там в мире - по Бофорту? Полный штиль?
- Штиль.
- Ну так, за мир во всем мире!
Мы выпили. И закусили. Выпили вновь.
“Сухопутного моряка”, как мне представлялось, забирало круче меня. Чай, с непривычки. Или из-за долгой отлучки от хмельных градусов. Хотя... хотя своей пули не слышишь, своей смерти не видишь, своей пьяни не чуешь.
- Давно с флота? - начал я осторожно выправлять его на фарватер.
- В бичах?.. И не говори!
- Год? Два?
- Мерь на пятилетки. “Широка страна моя родная, мно-г-о-в-н-е-й лесов, полей и рек...”
- При Хрущеве семилетка.
- Додумались, портвейн “Три семерки”!
- Не три... Одна! На три пороха не хватило.
- Грамотеи-Пифагоры! Каждый угол, по ним, сорок градусов. Будем здоровы! - и он опрокинул стопарь, зажевал питье обгорелым, с черными подпалинами, крылышком лесной птицы. И сторожко посмотрел на меня: - Какие еще вопросы будут?
Я решил его завести, помня, как он отзывался о местном люде - “мили на километры мерят”.
- А где ты плавал?
Старатель завелся с полуоборота, впрочем, и любой-другой мореход тоже не промолчал бы, покупаясь на обманный, но сознательно выставленный мною манок.
- Плавает говно! А моряк ходит. В загранку ходит, в каботаж. По морям и океанам ходит, чернильная твоя душа, паря! Кто на сухогрузе, кто на танкере...
- А ты? На сейнере?
- Нет, тралить рыбу не для меня.
- Кругосветка?
- Светка - баба уже не моя. У меня нация... это когда космополитов смолили... на визу подкачала.
- У меня - тоже, и на визу и на литсотрудника.
- А это что за тварь?
- Литсотрудник?
- Ну да! Не опер, случаем?
- Боец идеологического фронта.
- Выходит, ты не боец?
- Боец, и еще какой! Чемпион Латвии по боксу.
- А на идеологическом фронте?
- Курьер. По штатному расписанию большего мне, выяснилось, не положено. Вот и хлопнул дверью. Послал редактора... И - на восток, по меридианам. Здесь на пятый пункт не смотрят. Тайга - не море. Ходи туда, ходи сюда, к берлоге выгребешь - не в загранку.
- А я на паруснике ходил. “Чифом”. С пацанятами. Курсантами-практикантами. Из Рижской мореходки.
- На “Капелле”?
- Знаешь? Хвалю за службу!
- Списали твою “Капеллу”. На “гвозди”.
- Да ну?
- Гну!
- Чего так? Ей издержу, на мой прикид, еще не предвидится. “Лет до ста расти нам без старости!”
- Твоими бы устами... Впрочем, на данный момент она в доке. На Рижском судоремонтном. Изучают - смотрят - прикидывают. Мысля там их донимает: может, в плавучий ресторан твою “Капеллу” преобразить.
- Охренели! - психанул он, трахнул кулаком по столу, опрокидывая “взрывной волной” пустой стопарь. Поспешно перехватил его, наполнил, и жадно - в глоток. - Ресторан! Чтобы каждый сучок изображал себя корсаром.
- Вольней, конечно, думать о штормах за стойкой, - поддержал я морского волка.
В нем и откликнулось:
- Доброе судно! Парусность - дай бог каждому! Форштевень рубит волну, летишь, как птица.
- ...И пой себе: “Я, словно небо, могу достаться - кому угодно, но не себе”.
- Не вышибай слезу, “Латвийский моряк”, - сказал Старатель, с душевной тоской воспринимая мой экспромт. - Редактором, небось, по-прежнему - Ядин?
- Нет! Да ты с курса сбился, браток. Лет на двадцать, поди, - насторожился я. - Ядин был редактором тьму годков назад. Э-э, как это в исторических хрониках? “На рубеже сороковых-пятидесятых...” А сейчас... Сейчас Мотель, Яков Семенович.
- От перемены мест слагаемых сумма полезных евреев не меняется, так, что ли?
Это было неожиданно. Я фыркнул.
- А ты, “чиф”?.. Ты... разве полезным не был?
- И ты был, коли журналист.
- Чего же ерничаешь?
- Да удивляет меня, “мастер”, до чего Там глупы. Давят и давят... Кого? Полезных людей давят. С кем же Софье Власевне вдовий век куковать, когда всех выдавит? Наедине с собой? Да ведь в этом разе она и себя... из самой себя... со всеми нутрями выдавит. Как тебе перспективка?
- На штормовое предупреждение похожа, Александр Маркович.
- Что? - вздрогнул Старатель. - Я тебе паспорт не раскрывал.
- Не волнуйся, “чиф”, мне и души достаточно.
- Объяснись!
Лаконично, не вдаваясь в подробности, я рассказал бывшему старпому все, что было мне известно о пожаре на “Капелле”, и поинтерсовался, как это ему удалось обмануть охранку и улизнуть из-под носа кегебешников и обслуживающего их персонала стукачей и филеров.
Выяснилось, что 14 июня 1940 года, в день изгнания из Риги в Сибирь состоятельных латышей и евреев, товарники вывезли со станции Торнякалнс и родителей его жены, домовладельцев. Они обустроились на вечное поселение в Киренске - городе на острове, возникшем некогда из острога. Так что адрес спасения в голове имелся. А вкупе с адресом имелся и запасной паспорт. Не поддельный, запасной! Такими в ходе законспирированной операции “Бриха” латвийские сионисты снабжали евреев, стремящихся выехать в Палестину. К ним принадлежал и Александр Вовси. Жену и дочь он потерял в Рижском гетто. Визу отобрали в 1953-ем за родство с “выселенцами” 1940-го. С началом “дела врачей” он опасался, и не без причины, ареста.
Отступление третье
Тогда, как мне представляется сегодня, я исподволь прикоснулся к личному, “не подлежащему разглашению во все годы советской власти” секрету старпома Александра Вовси. Этот секрет не позволял ему, даже при желании, вернуться к людям, ибо выводил напрямую к тюрьме и допросам с пристрастием, а от них - к глубинной тайне латвийских евреев, не раскрытой в полной мере ни на Лубянке, ни в подвалах Рижского КГБ.
“Бриха” - “Побег”... Так на иврите была закодирована эта еврейская тайна.
Немцев из Риги изгнали 13 октября 1944 года. Но еврейским беженцам больше года не разрешалось вернуться домой. Они были разбросаны по всей территории Советского Союза. Однако надеялись выбраться из тюрьмы народов и двинуться в Палестину, если воспользуются открывшейся возможностью и эмигрируют предварительно в Польшу. Но для этого необходимо было оказаться в Риге, где потенциальными беглецами сколачивалась группа единомышленников.
Выезд латвийских и литовских сионистов в Польшу осуществлялся через Вильну. Уже в сентябре 1946 года четыреста пятьдесят из них добралось до Земли Обетованной.
Значительная часть рижских и виленских евреев имело представление о происходящем: среди исчезающих с советских горизонтов были их родственники, друзья, соседи по дому. Эти люди, судя по всему, испытывали определенную признательность к подпольной организации, переправляющей их собратьев за границу. Во всяком случае, среди них стукачей не попадалось. Скорей, среди них попадались те, кто так или иначе выцыганивал в пору неразберихи у новой власти запасной паспорт. В ход шли любые уловки: от фиктивных браков до фиктивных ограблений. Главное, быть наготове и держать под рукой надежные документы.
Вспоминает бывшая рижанка Поля Аронас-Нейштат: “К нам - а мы в конце декабря 1945 года, находилсь в Ташкенте, в эвакуации, - приехал человек из Лодзи, от Цви Нецера. Он предложил возможность выехать в Польшу, через Львов, а оттуда дальше. Но мы были уже связаны с так называемыми “мужьями”. И должны были с ними выбираться другой дорогой. Хотя отъезд каждый раз откладывался, мы не могли и не хотели отправляться в путь без наших “мужей”. С другой стороны, столь длительный фиктивный брак вызывал осложнения. Трудно было играть в мужа и жену в течение долгого времени. Все могло открыться. А это грозило нам неисчислимыми бедами...”
Эту историю я услышал в декабре 1978 года, вскоре после приезда в Израиль, в Бней-Браке, в квартире моей сестры Сильвы Аронес - дальней, по мужу, родственницы Поли. Более подробно о бегстве рижских евреев в Палестину рассказывал мне ее муж, на сей раз не фиктивный, Мордехай Нейштат, один из авторов книги “Через три подполья”.
“Душою всей операции “Бриха”, - говорил он мне, - был Мулька Иоффе...”
...Судьба его была невероятна, авантюрна, и при других обстоятельствах, в отключке от соцреализма, достойна романа “Граф Монте-Кристо”.
В конце 1944-го, когда евреям-беженцам возвращение в Прибалтику было еще запрещено, Мулька явился в московское отделение НКВД и потребовал спецкомандировку в Ригу. Свое требование он подкрепил тем, что перед приходом фашистов, работая на ответственной должности в порту, он спрятал там документы и чертежи, без которых ныне, в восстановительный период, не обойтись.
Мульке Иоффе было выдано предписание самого “серьезного” советского учреждения, и он отправился в Ригу.
На самом деле, прибыв домой и устроившись на работу в порт, Мулька приступил к подготовке побега латышских евреев в Палестину. С этой целью наладил связи с моряками торгового флота.
В сентябре 1945-го он нелегально выехал из Риги и добрался до Милана. Там встретился с сотрудниками штаба Еврейской бригады, в чью задачу входила забота об евреях-беженцах. Он убедил их в необходимости спасения сионистов Латвии, которым, исходя из политики Сталина, грозит полное уничтожение. И вызвался организовать отъезд евреев из Прибалтики в Палестину. Получив необходимые полномочия, он перебрался в Польшу, в Лодзь. Отсюда организовал помощь, оказываемую еврейским женщинам, застрявшим в Ташкенте в качестве “жен” польских граждан, - среди них была и Поля Аронас-Нейштат.
Затем последовали рейды Польша - СССР - Польша.
Каждая из нелегальных поездок могла окончиться трагически. Но Мулька рисковал. Что ему еще оставалось делать в той обстановке?
Как-то раз из Литвы в Польшу он проехал под видом репатрианта, а назад - в форме демобилизованного солдата. На первый взгляд, документы он получил надежные. Но на его беду вышел приказ - “проверять путем собеседования на лояльность” всех солдат, возвращающихся из Польши домой.
В пограничном пункте, в Бресте, Мулька вызвал подозрение у следователя, его арестовали, а после обыска могли бы и шлепнуть, скажем, за мародерство. Ибо в чемодане с двойным дном обнаружили 2000 долларов, полученных в Лодзи для оперативной работы на местах. На Мулькино счастье, его действительно приняли не за того, и ему удалось, обманув бдительность часового, бежать. Но, конечно же, его игра в прятки с “недремлющим оком” и “карающей рукой правосудия” не могла продолжаться до бесконечности.
И об этом “со всей советской прямотой” было ему сообщено при вынесении приговора. 25 лет заключения в ИТЛ.
Печора, Абезь, Джантуй - так назывались первые три из множества лагерей, в которых Мулька находился после осуждения. Повсюду за ним следовала казенная папка, с красной стрелой на мышиного цвета обложке, означающая: заключенный в прошлом совершил побег из-под стражи.
Узник, склонный к побегу, задумал вырваться на волю и в этот раз.
Но вторично судьбу не обманешь....
Вспоминает его сестра Рут Иоффе-Нойман, добившаяся с ним - невероятно, но факт! - свидания.
“Вернувшись в Ригу, я, благодаря счастливому случаю, сумела быстро раздобыть для него паспорт. Наметилась и возможность переправить ему в лагерь все необходимое. Но тем временем Мулю и его товарища по задуманному побегу разделили и развезли по разным лагерям. План рухнул”.
В 1953-ем Мульку перевели в Читу, потом в лагерь Балей, дальше-глубже - в Нерчинск, затем кинули на этап в Хабаровск.
...Умер он в ночь с 4 на 5 октября 1955 года, в вагоне для полуживых, где не было ни одного врача и ни одной медсестры - только тяжело больные и смерть. Произошло это на дальневосточной станции Бира, по пути в Биробиджан, куда Сталин незадолго до смерти намеревался выслать всех евреев Советского Союза - на голодомор и погибель...
У Сталина не вышло. С высылкой евреев. А у Мульки - Шмуэля Иоффе - вышло. С переправкой евреев в Палестину.
Один из его друзей, Нехамья Гросс рассказывает: “Когда благодаря отлично проведенной операции я вернулся с севера в Вильну, меня поразила сила и размах деятельности группы, возглавляемой Мулькой. Я близко познакомился с механизмом НКВД - мощной, всезнающей и всеохватной машиной в СССР. Все советские граждане глубоко верят, что нет возможности уйти от встречи с ней. Поэтому я был так поражен, познакомившись вблизи с работой этой смелой и столь успешной группы. Не думаю, чтобы в истории Советского Союза до тех пор была организация, которая сумела бы так обойти машину советской охранки”.
Через много лет один из его врагов, высокопоставленный чин рижского КГБ, будучи в подвыпившем состоянии, встретил как-то на улице Рут Иоффе-Нойман, которую прежде допрашивал, и разоткровенничался с ней с присущей пьяному человеку смелостью:
“Сейчас, когда я уже не на службе, я должен вам сказать, что вы были мужественны и последовательны в своей борьбе. И еще должен вам сказать, что ваш брат совершил исключительное по размаху дело. Я думаю, что вы отважные люди. Испытываю к вам самое большое почтение”.
В подверстку к этому высказыванию службиста-опера “с горячим сердцем и чистыми руками”, по-Дзержинскому, дадим еще одну, думаю, заключительную цитату.
“И на первом свидании с Мулей в 1948 году, когда состояние его было удовлетворительным, - пишет Рут Иоффе-Нойман, - и на втором свидании, когда я нашла его тяжело больным, он говорил мне одни и те же слова: “Никто на моем месте не выполнил бы дела так, как я. Даже, если бы я знал, что спасу только одного человека, и за это меня ждет этот горький конец, - я бы все равно сделал то, что я сделал. Я не раскаиваюсь”.
Он спас не одного, не двух, он спас сотни людей...
С этим у него вышло.
А вот с планом побега не вышло. “План рухнул”, - сетует Рут. А что с паспортом, раздобытым по счастливому случаю? Об этом она в своих воспоминаниях и не заикается. Почему? Понятно и слепому: воспоминания-то ее родом из первой половины семидесятых, “опасных”, гласностью еще не продутых, кегебешниками контролируемых. Странная для несведующих беспамятность. Для помнящих с детства древнее правило Страны Советов - “без бумажки ты букашка”- сознательная и целенаправленная. Меня она разворачивает к собственным домыслам. А не достался ли он, ненароком, паспорт этот случайный, другу моему Старателю, тогда старпому Александру Вовси?
Надобность в “серпастом-молоткастом” отпала у Рут Иоффе-Нойман в 1953-ем, когда Мульку перевели в Читу и свели к нулю вероятность побега. Держать столь обличительный документ дома, в Риге? В разгар борьбы с космополитами и наймитами Джойнта? Ничего опаснеее не выдумаешь! Избавиться от него, отдать в надежные руки - вот единственный выход.
Это в ситуации тотальной слежки удалось, по всей видимости, совершить Рут Иоффе-Нойман. Снабдив старпома “Капеллы” запасным паспортом, она уберегла его от участи брата.
К полному недоумению мозговитых околышей из карательных органов, Александр Вовси исчез из Риги. 14 января 1953. На следующий день после появления в газете “Правда” статьи “Убийцы в белых халатах”.
Под каким именем он путешествовал?
Под каким именем жил?
Об этом я его, помнится, спросил, набравшись лишку. Любопытство, знаете ли, вкупе с пьяными градусами! Тем более, на “оттепельных” экранах славствовал фильм о шпионах - “Как вас теперь называть?” Фишка у ленты напористая, вроде пароля для фанатов. Не успеешь прикусить язык, как она, на хмельных, изогнутых под вопросительный знак парусах выскакивает наружу. И хоть стой, хоть падай. В особенности, если догадкой долбанет по кумполу: да ведь он, таежный Тарзан, и слыхом не слыхивал об этой картине. Здесь у него другое кино: закон - тайга, медведь - хозяин...
8. По образу и подобию...
- Как вас теперь называть? - спросил я и запекся сердцем от своей оплошности. В растерянности, усугубив положение, добавил: - Александр Маркович...
Поспешно опрокинул стопарь. И - пальцами разрывать грудку рябчика, не скрывая за хаотичными действиями нутряную досаду.
- Называй меня... когда невмоготу без позывных... Ну, допустим, так - Длань Господня.
- Не круто ли?
В голосе Старателя я не ощутил обиды. И нотки подозрительности не проскользнули в нем. Поэтому, ругая себя за оплошку, вернулся к доверительному тону. На первый взгляд, удачно.
- Не круто ли? - усмехнулся он. - И это глаголит “образ и подобие”. Круто, согласен. Для незнающих - круто. А кто имеет глаза и уши, кто видит и слышит, для них - не круто. Присмотрись. Прислушайся.
- К чему?
- К себе присмотрись. К себе прислушайся. Закрой глаза. Коснись ладонью медали, что у тебя на лбу, и прислушайся.
- Сказки изволишь сказывать?
- А вот попробуй...
Я последовал его совету и в напряженной тишине стал постепенно различать слова детства моего, произносимые нараспев дедушкой Фройкой у молитвенного пюпитра. Слова из первой книги Моисеевой. Немыслимые для этой чудной сторожки. Для этого дикого края. Слова...
“И сказал Бог: сотворим ч е л о в е к а по образу Н а ш е м у, по подобию Н а ш е м у, и да владычествуют о н и над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу С в о е м у, по образу Б о ж и ю сотворил е г о, м у ж ч и н у и ж е н щ и н у сотворил и х.
И благославил и х Бог, и сказал и м Бог: плодитсь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле”.
Я вышел из непонятного транса - не мантры же читал! Ощупкой помассировал веки, поднял глаза на Старателя. И как бакенный огонек в тумане, приметил плавное, ритмично организуемое скольжение по воздуху его руки: будто бы дирижирует он мною, акцентируя внутренний оркестр на музыкальных фразах, прежде машинально проходящих мимо сознания.
“Сотворил е г о, м у ж ч и н у и ж е н щ и н у...”
Отсюда - следствие: Адам, образ и подобие, был до появления Евы мужчиной и женщиной, соответствовал внешнему обличию Бога. И лишь потом, удалив из себя женское начало, принял иной, не сходный близнецово со Всевышним облик.
Не зря же, вкусив плодов с дерева познания добра и зла, застеснялся измененной своей наготы. Она отличала е г о от Всевышнего. И жену его Еву. А соединение их вновь в одно неразъемное целое стало уже физически невозможным. Но оно происходило. Происходило у человеческого зародыша. В материнской утробе. И на недолгий срок. Пока пол ребенка полностью не сформируется.
Еврейские мудрецы утверждают: в зачаточный период жизни младенец знает всю Тору наизусть. Но, рождаясь, забывает ее тотчас.
Ангел-акушер, принимая малыша в подол, ударяет его двумя пальчиками поперек губ.
И - все!
Младенец забывает Тору.
Чтобы учить ее заново.
С детского возраста до глубокой старости, вплоть до ста двадцати конечных лет.
А на месте удара, над верхней губой, под носом, образуется продольная ямочка, памятный следок соприкосновения с ангельскими пальчиками.
- Что скажешь?
Я молчал. Что я мог сказать Старателю, не понимая происходящего?
- Выпьем? - сказал я, не понимая происходящего.
Таежник разлил по стопорям.
- А хлебушка не найдется? - сказал я, не понимая происходящего.
- Ишь чего захотел... Хлебушек в лесу не родится. Дикий угол! - на сто верст ни одной живой души. Только что разговоры разговаривать с Богом... А с приходом царицы субботы... тогда... с шабес-гоем, с мохнатым Михаем-боцманом. Дичью кормимся. От дичи и дичаем. Будем!
И он, резко выдохнув, опрокинул стопарь. Я последовал его примеру.
На глаза мои навернулись слезы. Не от забористости питья, от жалости к себе. Я смахивал их тыльной стороной кисти, пережевывал дымовой душок мяса и - “дичью кормимся, - бормотал, упиваясь бывалостью, - от дичи и дичаем...”
- Не сотвори себе кумира, - сказал Старатель.
- Из дичи? Дичь!
- Не из дичи, из человека. Теперь тебе понятно - почему человек никогда не может стать Богом.
- Трудно быть Богом, - вспомнился мне еще один популярный пароль нашей молодости, уже не киношный, литературный, из Стругацких.
Но и на него Старатель не отреагировал: не из тех он времен.
- Не трудно, а невозможно. Для того, понимай, Бог и разделил ч е л о в е к а. На м у ж ч и н у и ж е н щи н у разделил и х - ч е л о в е к а. Чтобы - без соблазнов! Хотели по-человечьи, нате!.. Богу Богово, а вам... “Плодитесь и размножайтесь!”
- Таежный синдром?
Старатель помешкал, не воспринимая в высокой отдаленности сарказма из реальных миров.
- Синдром.., - помедлив, собрался с мыслями, отразил атаку. - Синдром - штука Иерусалимская. Это там, в граде Давидовом, человек представляет себя то Христом-избавителем, то непорочной мамой его. А здесь?.. Зачем здесь Мессией нарекаться? Кого здесь спасать? Зверье да зверье! Здесь с Богом общаться, о Боге думать. Здесь, и только здесь, ты наедине с Н и м. В т а й г е и, наверно, в п у с т ы н е.
- А чувствуется?
- Что?
- “Наедине”...
- Чувствуется.
- А двуполость?
- О чем ты?
- Ты, случаем, не гермафродит?
- А-а, дошло-докатилось, куда клонишь. Не тот курс держишь, “мастер”. Право руля! Иначе на рифы сядешь, голожоп ты Роденовский. Не в сегодняшней двуполости дело. Так что гермафродитов просим не беспокоиться и не примерять Божьи одежки. Дело в элементарном. Я бы сказал, в элементарных частицах, этаких небесных токах жизни. Проще, в химии...
- Электрофикация плюс химизация всего Советского Союза! - торжественно провозгласил я, и словно с Мавзолейной трибуны кинул в игру третий пароль, Хрущевский, писаный золотом на кумачовых транспарантах памятной семилетки.
И опять без толку.
- Что? - переспросил Старатель и не стал дожидаться ответа, махнул рукой, приняв мои слова за пьяные бредни. - Как тебя вразумить? Представь себе, у Всевышнего и Адама, сотворенного по его образу и подобию, был один и тот же набор химических элементов. Когда же Бог вынул из Адама ребро и создал из него Еву, он перенес в чужое тело часть образующих Божью сущность элементов. Двум телам никогда не соединиться в единое целое. Хотели быть человеками - будьте. Но не пытайтесь стать Богом. Человеку по этой раскладке никогда не стать Богом. Человек! “В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься”. А теперь вместо всеохватного “человек” поставь любое, пусть самое крутое имя. Рамсес... Нерон...
- Чингис Хан...
- Наполеон...
- Гитлер... Сталин...
- Продолжим?
- Лекция?
- Обстоятельные размышления. О человеке... о сути его, взятой Богом из праха.
- Но ты ведь моряк, не философ, не богослов.
- Штурман я, дурья ты башка! А штурман - сын астрономии. А астрономия - мать всех земных и небесных наук. От философии до богословия. Понял? Понял и утрись! Я - астроном! Не придурок пристеночный из каботажников - ас! А что ты еще хочешь от штурмана? Чтобы он в земле копался? На бережку? И ничего дальше своего носа не видел? Как крот? Я не крот, паря! Я штурман! Штурман от Бога!
Я ничего не хотел от штурмана. От Бога он, или нет, мое дело - сторона. Ясно выставлялось, в особь через пустой стакан, Старатель завелся, и теперь не угомонится, пока не выложится по полной. Он и выкладывался, ритмично постукивая кулаком по столу, будто гвозди вбивал в глухо звучащие бревна.
- Будем знакомы, паря! Ленинградское арктическое училище - “любить и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнца!” Последний предвоенный выпуск! Практика в Заполярье. Распределение в Ригу. На “Эвероланду”. Для укрепления, позвольте доложить по форме, латвийского торгового флота. А чего его укреплять? В морской республике флот всегда в наличии. Моряков - да! - не доставало катастрофически. Кого посадили, кто в бегах, кто в загранпортах схоронился, и ни в какую назад. Суда у причалов, в доку, а экипажей - херушки вам, братья славяне! Ищи-свищи-вертайся, не солоно хлебавши! Это потом, после войны, каюк материальной части - на нулях стояли. К сорок шестому - не вру! - весь латышский загранфлот состоял из шести допотопных сухогрузов. И каждый - морская легенда. Дай Бог, памяти... “Эвероланда”. “Бирута”. “Турайда”. “Даугава”. “Гауя”. “Илга”.
- Пятерка!
- Подожди, “Латвийский моряк”! Тебе - чо? - собственная история не по разумению башки?
- Почему же? И мы - умы: “Эвероланду” тогда и переименовали... в сорок шестом...
- Ну да! Хвалю за службу, салаги Рижского залива! А теперь держитесь, уважаемые, за животики! Вытаскиваю подробности из шлямпенции мага и фокусника! Штурмана дальнего плавания Александра Вовси! Слушай, “мастер”, будет интересно. - Старатель опрокинул еще один стопарь, для красноречия, должно быть, и приступил к своему забавному рассказу, ныне вряд ли кому-то известному. - Стояли мы тогда, в сентябре-ветровее, на рейде Бергена... У берегов Норвегии... Нам предстояло влиться в караван судов, буксирующих огромный плавдок в Арктику. Ожидаем их прибытия, и вдруг - на тебе! - наш “маркони” Лешка Седов принимает депешу из пароходства. Мамочки-любы! - правительственное решение: “Эвероланде” где-то на самом их ЦеКашном верху выдана новая ксива. “Янис Райнис”. Знаешь, в чью честь?
- А то! Райнис... Аспазия... Сам когда-то, в литобъединении “Молодежки”, у Виктора Андреева, переводил их стихи.
- Во-во! Ты переводил. А нам вы-во-дить!.. большими буквами!.. выводить его имя, нашего, стало быть, классика. С двух бортов. Не выведешь - идеологическое прегрешение, и косись на визу, как бы не отобрали. На наше “художническое” счастье, в экипаже был отличный парень, мастер на все руки. Сережа Семенов. Он и “рацухи” изобретал, и картины писал - марины, под стать Айвазовскому. Вызываю я его по судовой трансляции: “Матросу Семенову срочно явиться к капитану Томсону!” Он и является. Маленький, худенький, однако - по сложившимся не в нашу пользу обстоятельствам - спаситель команды. Эрих Янович ему и говорит - так, мол, и так... в кратчайшие сроки, значит... как лучшее свое полотно, значит... напиши наши новые позывные. И что? Спустили подвеску. С левого борта. Примостился на ней Семенов, и давай!.. Пишет-старается, красоту наводит. И... А вот тут-то и пришла пора держаться за животики, уважаемые салаги Рижского залива. Только он расписался “Райнисом” по левому борту, как с мостика раздалось: “С якоря сниматься!” К нам подошел арктический караван, и надо было уходить с ним в рейс. Надо, значит, надо. Кто спорит? Вираем якорь, врубаем машину, “полный вперед!” И пошли... Правда, проскваживало нас зловещим юморком в этом плавании. По левому борту мы - “Янис Райнис”, по правому “Эвероланда”. Двусмысленность какая-то плавучая! Ничего подобного в истории флота не было. Могли и посадить. Но ничего, обошлось. Теперь приятно вспомнить, этому историческому казусу я курс прокладывал, вел его к арктическим льдам. Штурман! А штурман, как сказано, сын астрономии. А астрономия - мать всех земных и небесных наук. Я тебе по звездам и здесь, в тайге, курс проложу - хучь на золотые прииски, в Бодайбо, хучь на Ленское приволье.
Увлекся Старатель. Повлажнел взглядом, просматривая в коптящем свете ночников дымы над судовой трубой, а под ними контуры трудяги-парохода, частично разобранного ныне на музейные реликвии.
- Списали и твою “Эвероланду”, - выдал я ему “похоронку”.
- “Райниса” на гвозди? - поскучнел он лицом.
- Море - не литература. На море “нетленок” не сыщешь.
- По Гамбургскому счету выходит, я их всех пережил. И “Капеллу”. И “Эвероланду”.
- Шестьдесят стукнуло старушке, вот и баюшки-баю... Пенсионный возраст!
- Ну да, по родословной - 1908 года рождения...
Отступление четвертое
Завершающее в долгосрочной карьере плавание “Янис Райнис” совершил в Ливерпуль. На борту съемочная группа Рижской киностудии. С нашим Мотелем, редактором “Латвийского моряка”. И с Алоизом Бренчем. Тогда режиссером-документалистом, впоследствии мастером детективного жанра.
Мэр Ливерпуля, прознав о последнем морском походе легендарного и по международным меркам судна, выделил экипажу комфортабельный автобус: катайтесь по городу, ребята, щелкайте на пленку наши достопримечательности. Когда еще свидимся?
Помнится, в кинотеатре “Айна”, на просмотре фильма о прощальном рейсе “Яниса Райниса”, видя как Яков Семенович Мотель - он был инвалид войны, ходил на протезе - неуклюже поднимается в автобус, я экспромтом сочинил такие шутливые строчки:
“Хромает Мотель по экрану,
в автобус лезет, словно на Парнас,
а “Янис Райнис” - его Пегас -
на растерзанье отдан кранам...”
“Когда снимался фильм о последнем рейсе “Яниса Райниса”, - читаем мы в очерке Мотеля “Счастье трудных дорог”, помещенном в коллективном сборнике “В годы штормовые”, 1971 года издания, - киноработникам удалось найти уникальные кадры: полуобнаженный кочегар, ловко орудуя лопатой, забрасывает уголь в прожорливую топку. Лицо паренька, его тело покрыты блестящими каплями пота, а он все бросает и бросает уголь в огненную пасть. И кажется, нет конца этой изнурительной, нечеловеческой работе...”
Эта картина - не просто зрелищна, она символична. Ибо предметней всего отражает тот угольный век, всю тяжесть которого нес на себе старейший пароход советского торгового флота “Янис Райнис”.
Казалось бы, как в ролике с бессменным кочегаром, время над ним не властно, а конца его невозможной, изнурительной работе и не предвидится.
Но жизнь есть жизнь, судьба есть судьба.
А у парохода - своя жизнь и своя судьба.
“Эвероланда” была построена на американских верфях в 1908 году. Она сменила много названий и разных хозяев, пока не обосновалась в Риге. За ее кормой насчитывалось около двух миллионов миль - чуть ли не 80 витков вокруг “шарика”. “Железная леди” испытала все: огонь, воду и медные трубы. А тут еще и война!
26 июня 1941 года Центральная эвакуационная комиссия города Риги приняла решение - перебазировать в Ленинград морские суда и плавучие средства.
27 июня к 18 часам выход всех судов на рейд Болдераи был завершен. Эскадра в составе тридцати кораблей, а это - ледоколы, буксиры и речные тихоходы - взяла курс на Эстонию.
28 июня в 4 часа утра караван прибыл в Пярну, а 3 июля в Таллин.
Отсюда латвийским и эстонским морякам г р а ж д а н с к о г о ф л о т а, “не оборудованного средствами огневой поддержки для боевого соприкосновения с врагом”, предстояло выйти в самоубийственное плавание. Надежды на удачный исход безумной затеи почти не было. Но, известно, - надежда умирает последней. И прибалты, взяв на борт людей и снаряжение, безоружными, без прикрытия самолетов и военных кораблей, рванули в небывалый по дерзости переход: Таллин - Ленинград.
Головным судном на “дорогу смерти” вступила “Турайда”.
В кильватере за ней, имея на палубе и в трюмах до тысячи беженцев, двинулась “Эвероланда”.
С неба сыпались бомбы. По морю скользили пенные буруны от торпед.
Ни пушек. Ни пулеметов. Отбиваться практически нечем. Солдатские трехлинейки - что слону дробина. Оставалось уповать на Бога и везение.
Однако лотерейное счастье отвернулось от “Эвероланды”. Она подорвалась на мине. Пробоина в трюме была угрожающей, уровень воды стремительно повышался.
И тогда капитан вместо того, чтобы спускать шлюпки на воду, принял парадоксальное для смертельной ситуации решение. Но как оказалось, самое верное. Он дал “полный вперед”, направил судно к ближайшему острову и посадил его на отмель.
Моряки-братишки - в “аврал!” На скоростях изготовили да подвели к бреши огромный пластырь. Затем дождались мощного тягача и - рывок, еще рывок!.. поехали, голуба!..
“Эвероланду” сдернули с мели и, едва живую, потащили на буксире в Ленинград.
Так она влилась в Балтийский флот, который к сентябрю, когда трамваи ходили только до Кировского завода, а фронт находился за Угольной гаванью, насчитывал всего двадцать два корабля, включая в секретный по тем временам реестр и латвийские да эстонские суда...
Так она стала участницей обороны северной столицы.
А эта уже другая история... Для меня. Но не для штурмана Александра Вовси. Для него - продолжение старой.
Живая история...
9. Золотая жила Сибири
Живая история... Сидит она напротив меня, за столом, в меховой телогрейке. Сидит, слегка покачиваясь. Пьяная, понятно и собутыльнику, но, несомненно, живая. История! Опрокидывает граммульку и, запалясь, доказывает, смертью и жизнью, войной и миром, уже стократно доказанное.
- Штурман я, не придурок пристеночный - из каботажников! Я тебе курс между мин проложу! Не то что здесь... Здесь, по звездам... Да хучь в Киренск, хучь на Ленские прииски.
- Ленские охраняются.
- А что у нас не охраняется? Совесть? Честь?
- Золотая жила Сибири. Не найдена - не охраняется...
- И про н е е тебе наворочали, “мастер”?
- Земля слухами полнится.
- Непутевые твои слухи, приятель. Они многих уже до могилы довели.
- Ты ведь жив...
- Я жив по другой причине.
- Секрет?
- Не расспрашиваю о жиле, вот и жив.
- Трудно поверить, Александр Маркович. По округе кто тут не рыщет. И все с молоточком, на всякий запасной. По камешку тюк-тюк: блеснет искрой золоченой? С лоточком вдоль речки. Водички зачерпнут, донный песочек размоют - блеснет ли искрой золоченой? А ты - здесь, в самом центре заколдованного круга. И - не расспрашиваешь. И молоточка, небось, нет? И лоточка, чай, не приобрел? Такая арифметика?
- Глупая твоя арифметика. Не всегда дважды два - четыре. И молоточек есть у меня, и лоточек пользую. Но о золотой жиле не расспрашиваю.
- И не ищешь?
- Не ищу.
- Не верю, как говорил Станиславский. Не верю, хоть побожись.
- Божусь.
- Так и поверил! Чем тебе еще тут заниматься? Высшие материи? Душеспасительные беседы с Всевышним?
- Не человеческое это занятие?
- Почему? Принимаю и приветствую. Но в осадок души выпадает: передергиваешь ты, штурман, передергиваешь, сын науки астрономии.
- Смысл?
- Вот его и не вижу! Запереться в глуши? без людей? и вести в одиночестве разговоры с Всевышним? Нет!.. Чтобы не сойти с ума, необходимо чем-то заниматься. Реальным. Имеющим конкретную цель. Это не охота для пропитания. Это... Штурман, куда на сей раз курс прокладываешь?
- Неймется вам эта золотая жила. Допытываетесь, допытываетесь. Уймитесь!
- Ее ищешь?
- Не ищу.
- Люди... геологи, старатели... ее ищут - надрываются, а ты...
- Мне ее искать без надобности.
- Уже и человеком себя не считаешь, штурман? Окончательно переименовался, как “Эвероланда”, по приказу свыше?
- Отчего же, человеком себя считаю. Но искать мне жилу без надобности. И расспрашивать о ней тоже. Я сижу на ней, сплю на ней, греюсь от нее. Разуй глаза, хлопец. Жила эта - вот здесь, подо мной протянута, через подземные мои коммуникации.
- Чего-чего? Заговариваешься!
- Положим, не заговариваюсь. Если я не в Кремле, так у меня и подземных коммуникаций - никаких? Ошибаешься! Пыточных камер не держим, а подземные сооружения... Есть у меня и такие, подземные. Правильнее предположить, пещерные... Но правильнее ли так предположить, ума не приложу.
- Не компостируй мне мозги! - возмутился было я. Но услышал:
- Имеющие глаза, да увидят! Говорил же, а ты ноль внимания, “мастер”, - наклонившись, он вынул из короба с солониной, в котором я давеча так и не пошуровал, ноздреватый самородок, величиной с голыш, и положил его на стол, рядом с моей фляжкой. - Дарю! Твой напиток богов того стоит!
Я пододвинул к себе металлический камушек медового отлива. “Увесистый”, оценил, взвешивая его на ладони. На зуб пробовать не стал, чтобы не вызвать иронической усмешки. Другого способа проверки, кроме “зубного”, не ведал по наиву душевному: даже обручальным кольцом еще не обзавелся. Впрочем, и об этом способе, самом распространенном у пиратов и менял, имел иллюзорное представление, почерпнутое из фильмов и книг.
- И много у тебя? - спросил у Старателя.
- Свое - карман не тянет, - неопределенно ответил он.
- Настоящее?
- Проверь, коли не жаль глаза... Там проба, на обороте. Царева. Петровской эпохи.
Я послушно, под гипнозом иррациональной ситуации, повертел самородок, ища рифленое тиснение. И смущенно зашмыгал носом, раскусив с опозданием розыгрыш. Досадуя, скоропалительно искал возможности отыграться. Вспомнил о целительной медали, подвешенной ко лбу. Снял ее, сравнил с самородком. По цветовому окрасу - сходны, по весу - почти... Положение обязывало выглядеть трезвым. Выглядел ли? - без понятия. Но голос, по напрягу, вроде бы трезвости еще не потерял. Вот этим трезвым голосом я и стал уличать Старателя. В чем? В том, что у трезвого должно быть на уме.
- Стало быть, медали чеканим?
- Ну-ну...
- Сувениры таежные...
- Зачем?
- На продажу.
- Кому? Михаю мохнатому? Экая невидаль, таежные сувениры! Ему мясо подавай на зуб, не золото.
- Мне тоже, - признался я.
- Тогда закуси, - Старатель пододвинул ко мне тарелку с мочеными в каком-то кисловатом соусе фруктами-дичками, похожими на антоновку, и пояснил: для выправления извилин - в самый раз. Проверено на себе, помогает.
Я закусил. Удовлетворенно кивнул. И подмигнув как заговорщику, затянул:
- И яблочко-песню держали в зубах...
- Держи-держи, но не превращайся в Кима-золотоискателя. Печки клал классные, а как на золотишко позарился, вмиг весь Киренск превратил в остров.
- А тебе что, ты и так Робинзон.
- По своей воле, не Кимовой...Усек?
Отступление пятое
Ким - печник, он же - золотоискатель - это местная, уникального значения достопримечательность. Почитай, сказ, легенда и небывальщина в одном лице. А по представлениям Хохлачева, редактора газеты “Ленские зори” семидесятых годов, самый башковитый в веках Киренский человек. Из породы чародеев сибирской хватки и сметливости. Его деяния заслуживают повести, либо романа. Но прежде... Прежде обойдемся и очерком. Прошу любить и верить: все по-честному, без обмана и вымысла...
Итак...
Но сначала, для полноты таинства, о Киренске...
Назван он не в честь Керенского. И не рожден от слова - “кирять”. Древний царь Кир нам тоже до лампочки в этом непридуманном повествовании.
Город возник в давние стойкие времена. Из острога.
Непонятно? Пояснение: в давние стойкие времена, при завоевании Сибири, заложили в междуречьи бревенчатую тюрьму - “бежать не моги!” Справа надежной преградой Лена, слева взбалмошная река Киренга, а кругом тайга - до Британских морей - с авторитетным даже для преступников Хозяином. (Кстати, психованая Киренга и передала свое имя городу, потопив предварительно немалое количество его основателей).
Заложив острог, целинники подняли его до стропил. А затем заложили пятистенки для тюремщиков и обслуживающих тюремный люд работных людишек и всяких прочих сварных родственников, домочадцев и нарождающихся ненароком детишек. Потом, спустя годы и годы, для жен декабристов, сидящих в тамошней Кутузке.
Они, эти жены, достигшие после кончины бессмертия, мало-помалу - при жизни - поднимали невысокий, надо признаться, интеллект местного населения, очень неохочего до учебы.
Все бы им, местным, в тайгу, по кедровый орех, али на медведя. Еще рыбу горазды выгребать, перепелку рукой безоружной слапать, да и соболика в глаз примочить - все могли, не учась, по призванию и природному таланту. Вот бомонд и французский язык, честное слово, ни то, ни другое им не давалось. И бежали они, местные, от училок - силки ставить, рысь раздевать донага, волку пасть выворачивать. А все стремление к просвещению скинули на Кима, собственного летописца, золотоискателя и печника, выкормленного ими за тягу к наукам березовой кашей с олениной.
Вот он - единственный - и учился. Учился и превозмог. Бонжур - говорил. И мерси - говорил, даже если били его невзначай по морде за эти неприличные слова.
Где какая руда - знал не понаслышке. Где какой минерал - ведал не с барчуковых слов. Где какой золотой запас России - вызнавал не на чужой зуб.
Очень уж ему хотелось вставить три пера Бодайбинским градоначальникам, кичащимся золотыми приисками своими, любыми всей стране. Хотелось приисков своих, Киренских, чтобы с золота есть, чтобы с золота пить, и на золото по нужде ходить.
Летописца, как сказано, величали Ким. Не путать с коммунистическим интернационалом молодежи, еще не рожденным в пору, когда он слагал свои летописи, или с популярным именем стахановцев и ударников. Ким располагал седой бородой, китайско-русско-якутской внешностью, родословной от Ермака, верительной грамотой от Чингис Хана и нержавеющим пером неведомого происхождения, из химически чистого железа, в ту отсталую годовину - да и сегодня! - еще не добываемого. Была у Кима утеха - писать летописи. То бишь подноготную города Киренска. И писал, благо грамотный.
Мне доводилось читать его летописи, правленые грациозным пером дворянского происхождения. Ошибки встречаются, не не часто. Не на единицу. На тройку, поди, с плюсом. Однако оценки за сочинения он получал явно завышенные. Впрочем, я догадываюсь: поставь ему пару лебедей, и один-разъединственный ученик звезданет тут же в гнездовище женьшеня и накарякает там такое, что и через сотни лет Россия не отмоется от его наркотического бреда.
Поэтому ему, Киму-летописцу, печнику и золотоискателю, позволялось училками из Петербурга писать только в классе, за партой. Иначе - кол. Угрозы эти Ким воспринимал по-азиатски. Во французском прононсе слышалось ему - “на кол!” И он из класса не выходил даже по нужде. Ибо хотел по нужде ходить на золотой унитаз, а не в дощатый сортир с дыркой от бублика на двери. Поэтому много сотворил летописей.
По ним выходило, что Киренск основан за двести лет до Москвы и по праву первородства наделен мессианским предназначением: встать во главе Российского государства - до скончания имперских времен.
Обман? Или намек на сегодняшний день? Может, на завтрашний, когда вновь Россию придется собирать из губерний, вырывая куски изо рта оборотней в погонах, мундирах и в фартуках живодеров?
Стилист, однако, он был превосходный. Вот примерец из его писаний.
“День вертит солнечный жернов к ночи. Ночь извергает небесный огонь на рассвете. И вспыхивают облака зорным заревом. Первые российские облака, нарожденные у восточных границ. Облака, коим нести очищающее пламя на запад, к отстающим в развитии от нового времени градам и весям Матушки-Родины. Сапоги там правят бал. А на паркет надо бы валенки”.
Так, приблизительно, писал летописец Ким, печник и золотоискатель по совместительству.
Мне представляется, что юный Косыгин, еще не Алексей Николаевич, живший до ленинградского взлета в Киренске и родившей там свою дочку, тоже читал рукописи летописца Кима. В начале нашего убойного века их не прятали в спецхране, тем более, что такого в Киренске не наблюдалось. Там даже не было еще ни одной библиотеки. Как и великого тяготения к знаниям, в особенности книжным. Однако произведения Кима кочевали из уст в уста, а иногда и в письменном виде - для грамотных. Очень уж любо было киренчанам ущучить Москву: вы от Ивана Калиты, а мы на двести лет раньше, из острога. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Потом - так говаривал один местный поэт - они ходоков отправляли к Блоку. “Купи строчки, а то по башке дадим!”
Купил или не купил - этого летопись не сохранила. Но использовал - факт! Любители поэзии могут в том убедиться и в двадцать первом веке, если память им еще позволяет.
В 1928 году Алексей Николаевич Косыгин тоже купился на строчки патриотов районного центра, где предок его, должно быть, папа, по словам краевых собирателей запрещенных к публикации родословных, считался ленским богатеем, владельцем речных судов. Правда, воинственной силой творчества Кима-летописца Алексей не владел. Это и проявлялось нередко в его заметках - тогда внештатного корреспондента “Ленской правды”, популярного для малограмотных книгочеев издания. Потом газету переименовали в “Ленские зори”. Образчик его сочинений - от 15 февраля 1928 года. /“Ленская правда” №13 (301). Среда/.
ВЫЗОВ КРИВОШАПКИНЦАМ
Деревня ждет “масленицу”. По подсчетам самих же крестьян д.Кривошапкиной, масленка обойдется им примерно в полторы тысячи рублей.
Я вызываю кривошапкинцев - бросить старые бытовые предрассудки и отказаться от традиционной “масленицы”. Оставшиеся средства обратить на приобретение облигаций 4 крестьянского займа “Укрепление крестьянского хозяйства”.
Думаю, кривошапкинцы как жители одной из передовых деревень, примут вызов и выполнят лозунг т. Калинина: “Каждое крестьянское хозяйство должно иметь облигацию 4-го займа”.
А. Косыгин
По подшивкам тех времен я лично убедился: кривошапкинцы и петропавловские, домоседовы и никулинцы - жители разных деревень Киренского района - предпочитали займу корову и лошадь, одного петуха на десяток кур, обрез и шашку. Неслухи! А может быть, благодаря этому и выжили? Сибиряки ведь все же... Кривошапками своего кустарного изготовления могли закидать всю Россию, если бы не были ленивыми.
Что общего между двумя цитатами - приблизительной, от Кима, и дословной, от Косыгина? Общее - направление...
И слова летописца-Кима, и “вызов” его последователя, будущего председателя советского правительства Косыгина, нацелены с бесстрашием таежных жителей на Запад. Из полагающего себя в перспективе российской столицей г. Киренска - туда, куда время обновлений еще не поспешает на своих куриных ногах. Каждому киренчанину это и по сей день ясно. Ему и сегодня не надо смотреть на компасную стрелку, он и так знает, куда клонит ветер. И кривошапкинцев, и петропавловских, и домоседовых, и никулинских.
Я был близко знаком со многими - кривошапкинцами, петропавловскими, домоседовыми и никулинскими. Во всех - гордыня. Выражается она так: пора скинуть Киренск с трона столицы района!
По-своему они все были правы. Что для них Киренск? Самозванная столица района. А золото не найдено. Золото в Бодайбо. А край-то там какой? Фиговый!
Ленские события помните? А в подробностях? Наверное, всего лишь и помните, что из-за Ленских событий Ульянов назвался Лениным.
А вот то, что Ленские события происходили в Бодайбо - это для вас, полагаю, открытие.
А то, что бунт там разразился потому, что работный люд кормили для экономии золотого запаса России конскими членами - совсем не по башке.
Так ведь? Однако край, что рылом не вышел и конскими членами питает брезгливый народ, ходит-красуется в газетных вершковых заголовках. И кажет Киренскому собрату - кукиш, будто не дорос сосед до новостных рубрик.
Чего скрывать, Киренский район и впрямь не дорос. Ни золота, ни коней, ни членов. Хотя по размерам - ого! Кого угодно перерастет. Размером на две Франции. На телеге ехать - не проехать. А на барке только летом, по Лене или Киренге. Зимой - наст. На оленях лучше. Словом, добраться хоть до одной деревни - летом ли, зимой - можно только с опричниками. А сибиряки и им уши могли отрезать из любви к съестному и справедливости.
Столицу своего района деревенские, мягко говоря, не любили. Тем более, что в темной древности - по дороге в современность - она была облапошена. И кем? Самобытным летописцем Кимом, печником и золотодобытчиком. Он и превратил Киренск в островной город - нате вам! Объегорил Самое Городского Голову! С ними бы, деревенскими, такой фокус-мокус у Кима не прошел бы. Они - Петропавловские, Никулинские, Марковские - жестоковыйные. Крепко стоят на материке и не колышутся от дуновения эпох.
Теперь загадка на сообразительность...
Как Киренск оказался островом? Вот вопрос! Вопрос всех вопросов! Для несведущих! - это известно любому старожилу глубинки, по летописям того же плодовитого автора. Хотя бы уже потому, что об этом случае из биографии Киренска он писал от первого лица. Слова такие... Нет, слов его употреблять не буду. Перескажу их, как в сочинении на вольную тему о - положим - Наташе Ростовой.
Пересказываю...
Когда Ким повышал образовательный уровень у жен декабристов, его не выпускали из класса ни по малой, ни по большой нужде. Не дай Бог, убежит в тайгу, башебузик. Золотишко намыть. Женьшень подсобрать К грибам да клюкве. К медведю и подругам его росомахам.
Ким и не бегал. Терпел нужду - и малую, и большую. И значит, что на поверку? На поверку - безденежье! Лютая хворь пустых карманов!
Кому от этого выгода? Никому! Прежде всего, ему самому. А он!.. Если смотреть в корень, он - там это четко обозначено! - мастер - производственник - золотые руки. Печник он! Печник! Высокой квалификации! И коли не позволяют бегать в тайгу, на ручьи золотоносные, то остается печи класть, дымоходы чистить, по грошу выскребать у односельчан-горожан и уговаривать себя - “копейка рубль бережет”...
Как-то раз случилось, что Городской Голова предложил ему сложить печь. И где? Не у черта на куличках. В собственном доме! Более того, за монеты звонкие, царской чеканки. Добрые деньги посулил, жулик, взаправду обещал расплатиться...
Ким и согласился, хотя вынужден был прогуливать занятия. Приработок все же - дороже бесплатной грамоты. Печь он сложил. Из глины свежей, устойчивой. Ее, высококлассную, выскребал у протоки, в потайном месте, где золотишко мыл без свидетелей и их приятелей-душегубов.
Но тут необходимо подчеркнуть: в ту пору Киренск еще не слыл островом и в диком бреду не грезил, что вскорости станет посмешищем для деревенской публики. Его отлогие берега обегали от веку две реки. Сибирские, естественно. Лена и Киренга. Между них лежал перешеек. И в половодье можно было выбраться в тайгу. По кедровый орех. Или на сохатого-рогатого. Белка тоже в хозяйстве пригодится.
Кто же при таких условиях запасается лодкой? Кто строит прогнозы на островное будущее? Стабильность кругом, дери ее черти! На тысячи лет, кажись, дремучая стабильность - ни перестройки тебе, ни инакомыслия.
Глину Ким добывал, как сказано, в потаенном месте, в пещере Альзам, на речном плесе, рискуя окунуться в своенравную Киренгу - и, следовательно, утонуть по причине подводного своего положения.
Но он был мастак!
Поручил ему Голова печь сложить, он и не утонул. Глину добыл, замесил. Печь поставил. Деньги захотел получить.
Городской Голова сказал ему в день зарплаты: “А шел бы ты!...” И послал... по адресу... к репрессированным декабристам и женам их, с дворянской честью и верностью в сердце и женской груди. Послал, не засмущался. Не заикало в нем, что на французском не квохчет - не кудахчет, и что гальский петух в лице оскорбленного Кима клюнет его в темечко, а то и пониже...
Ким-печник был мстительным летописцем. Он знал, как вставить лыко в строку. Так что сразу смекнул: денег не будет от Городского Головы никогда, потому что никогда их не будет. Смекнул и ответил доходчивыми русскими словами. Без “бонжура” и “мерси”.
“Ты мне это припомнишь, - ответил он на понятном наречии, - Голова ты ослиная, морда нерусская! И дети твои ослиные припомнят! И дети детей твоих, морды нерусские! И все прочие гады-потомки!”
И пошел себе. Но не за парту. Не к женам декабристов - училкам своим ненаглядным пошел.
А куда?
К матушке-Киренге, туда, где выковыривал глину для печи. И там, в тайном для всего человечества по сей день прибежище, но примечательном по природе коварной своей, подвернул саперной лопаткой слабый на деловые устремления грунт. И он, обомлевший от сонной бездеятельности и вековечной лени, вдруг ощутил подвижку и потек сам собой. Подобно Емели на самоходной печи. А куда? Хрен его знает! - куда понесет нечистая сила.
И Киренга - по воле руки и ума человечьего, киренского расклада руки и ума, тоже подвернула, скособочила русло. И покатила - не через день, разумеется, не через два, спустя сроки... покатила-заскользила-понеслась, бешеная, как на тройке с бубенцами. В обход Киренска. На встречу с подружкой-красавицей Леной. Обхватила город объятием необъятной силы, окружила, как Паулюса в Сталинграде, и - капут!
Вот и вся история.
Вот вам и весь остров.
Вот вам и весь Ким.
Грамотным был - летописец. Мастеровитым был - печник и золотодобытчик.
По всему, те он учил алфавиты. В нужное время учил, и в нужном месте.
И с педагогами ему подфартило.
Вот ведь некоторым здорово везет - тем, кто в нужное время в нужном месте. Везет в тени чужого невезения. В любую погоду, при любых обстоятельствах. И не только при царе-батюшке, когда ты Иванушка-дурачок. Но и при тоталитарной власти, когда пусть не дурачок, но все равно Иванушка.
Учился и учился, а дураком не помер. Учился и выучился - голь на выдумки хитра. Выучился и перекроил на собственный лад географическую карту Восточной Сибири. Почитай, на восемьсот километров - к северу от Иркутска. А дай Киму не саперную лопатку, не кирку и молот, дай что покрепче да похлеще, так он по воле руки и ума человечьего, глядишь, и космические фотонные реки повернет вспять да заставит их бежать от себя без огляду. Не по глупости ведь поется: “А также в области балета мы впереди планеты всей”.
10. Под пятой дядюшки Страха
Старатель в запале от водки и одиночества, а может быть, от неосторожного моего замечания о необходимости чем-то заняться, конкретным, целевым, чтобы не сойти с ума, наслаивал фразу на фразу. “Вначале было слово”, повторял как присказку, оглаживая бороду, и говорил, говорил... Прорвало...
Говорил в охотку, словно открывал передо мной мир и н ы х слов, потаенных прежде во внутренних монологах. И я чувствовал: все, что он говорит, мне знакомо, вернее, должно быть знакомо, близко по ощущению, но как бы в сиеминутности бытия, в мельтешении будней забыто.
При этом четкие, запоминающегося рельефа слова не оседали в мозгу. Проскваживали его и улетали в космос, откуда, видимо, и приходили. Что оставалось в памяти? По памяти и привожу...
Вначале было слово...
Каждый человек в кругу людей, где бы он ни был, где бы ни служил, ни кормился, находится под прессом Страха. Ибо - в кругу людей! - он нуждается в ответной реакции себе подобных на свои поступки, ждет одобрения или нарекания.
Он не освобождается от страха, когда идет на доклад к начальству или, наоборот, принимает доклад подчиненного.
Не освобождается от страха, когда поднимает в атаку роту или, наоборот, приказывает ей залечь и окопаться.
Не освобождается от страха, публикуя свои произведения в самых престижных журналах или, наоборот, сжигая их - изданные книги, рукописи ли - в печке.
Не освобождается от страха на самой высокой ступеньке пьедестала почета или, наоборот, при первых шагах в мир олимпийских надежд.
В человеке - потребность в управлении ситуацией и желание заручиться помощью влиятельной силы. А это все - ожидание, потребность, одобрение, нарекание - бесчисленные дети дядюшки Страха.
И кто бы он ни был, человек - генсек, премьер, председатель, директор, маршал или генерал - дети дядюшки Страха его не покинут. Он всегда пребывает в ожидании ответной реакции и потребности в одобрении совершенных им поступков.
Вначале было слово...
Даже Сталин, и тот жил по этим человечьим понятиям. Потому и выработал свои, бесчеловечьи: снимать головы, не дожидаясь ответной реакции на свои поступки.
Семинарист по образованию, он ведал, что творил, и знал превосходно: та реальная сила, какой обладает генсек, премьер, председатель, директор, маршал или генерал, улетучивается из этого, внешне одухотворенного воздушного шарика, вместе с потерей кресла или эполет.
Знал и действовал соответственно, ползая, как не трудно догадаться, в ногах у дядюшки Страха.
Одно утешение - и он!
Вначале было слово...
Жить среди людей - это гноиться в вечном плену у дядюшки Страха. В ожидании реакции на поступки, одобрения или нарекания, не говоря вообще о чем-то куда как более серьезном и грозном.
Правда, древние еврейские методики, породившие и многие прочие из дошедших до наших дней, утверждают: соединение с Высшим “Я” приносит человеку исцеление от этого психического кошмара. С о е д и н е н и е. А как его достичь? Только благодаря открытию в себе самом истинного своего “я”, порожденного от “Я” Всевышнего.
Истинное свое “я” - дух животворящий, часть той вселенской души, разбитой по изгнанию Адама из рая на тысячи мелких осколков. И теперь в каждом из нас по неприметному зернышку - мизерная пыль от некогда великой души, дарованной на заре времен нашему допотопному предку.
Не оценил он, а раскаиваться нам. Но не будем о Каббале.
Вначале было слово...
И кажущаяся немота окружающей его природы.
И человек, предназначенный для обретения самого себя в природе и природы в самом себе.
Человеку, как и встарь, надо настраиваться на восприятие живой природы.
Дабы, проникнувшись ею, обильной и щедрой, не утерять дарованное Свыше внеземное совершенство: живородное сочетание неограниченного в мощи, бесконечного в изменениях, но якобы бездеятельного ныне разума, с активным, индивидуальным - собственным. И отразить его в праве на выбор. Ибо право выбора - это о т р а ж е н и е воли Всевышнего в человеке, разительно отличающее Гомо Сапиенса от животного. Право, полученное прямо от Создателя. И позволяющее созидать все, что только душа пожелает.
Не сотвори себе кумира, человек!
Вначале было слово...
И оно, изначальное, дойдет до тебя, человек, где бы, в каком далеке от людей ты ни находился. На арктической льдине. В тюремном изоляторе ГУЛАГа. На олимпийском помосте. За писательским столом. В таежном зимовье. В море, на суше и в воздухе.
Умей абстрагироватся, уходить в себя, настраивать голос Внутренний на голос Внешний.
Умей воспринимать одновременно - Его, природу и себя.
Как писал Франц Кафка: “Вам не нужно покидать собственную комнату. Продолжайте сидеть за своим столом и слушать. Вам не нужно даже слушать, просто ждите. Вам не нужно даже ждать, просто учитесь спокойствию, неподвижности и уединению. И мир свободно предстанет перед вами в своем незамаскированном виде. У него не останется выбора, он в экстазе бросится к вашим ногам.”
У мира не останется в ы б о р а.
У человека, от Всемогущего, право в ы б о р а остается всегда.
Е г о п р а в о в ы б о р а о т р а ж а е т в о л ю В с е в ы ш н е г о
Не сотвори себе кумира, человек!
Вначале было слово...
11. Секретный код человечества.
Какая-то странная, шелковистая по восприятию тишина, позволяющая прислушаться к самому себе и звездному небу, установилась в обители Старателя.
Чувствовалось, по всему чувствовалось, настраивается она, тишина эта небесная, настраивается - живое существо, не иначе! - на нас, своих собеседников, и вот-вот, уловив, как по камертону, верную ноту, вступит в нас из своего вечного безмолвия.
- Так ты мне веришь, “мастер?” - с придыхом, ощущая колебания воздушной паутинки, спросил у меня Старатель.
Он пододвинул к себе целительную медаль с таинственной гравировкой по окружности. Поставил ее на ребро и ритмичным постукиванием по столу стал отгонять заполняющую сторожку тишину.
Будто включил метроном, будто начал отсчет времени. Но ведь не в космос летим! И не держим палец на кнопке “Пуск”.
Однако...
“Пять”... “Четыре”... “Три”...
Отсчет! Идет отсчет! Отсчет чего?.. тишины?..
Позвольте, что за ерунда, какой отсчет у тишины? Тишина - сама по себе! Или она есть, или ее нет! Какой, к черту, отсчет?
“Два”...
“Один”...
“Он сказал: “поехали...”
- Так ты мне не веришь? - допытывался Старатель. - Не веришь, паря... Вижу по глазам.
- Верить либо не верить - это тоже... - выталкиваясь из засасывающего воздуха вечности, я собирался с мыслями.
- Право выбора?
- Право, Александр Маркович. Отражение воли Всевышнего.
- Вот мы тебе, паря, сейчас и проведем экзамен на право... Не лыбься, не по уголовному праву! На право - быть или не быть.
- Ту би о нот ту би... Быть или не быть - вот в чем вопрос, перевод Бориса Леонидовича Пастернака.
- Окстись, Гамлет! Меня, штурмана загранплавания, упражнять в английском?
- Окстился, Шекспир. Приступай к новой своей трагедии. По местным метеосводкам, сухостой - благодать для божественного огня. Не то что - вызнобень туманного Альбиона.
- Кончил?
- Кончил.
- Тогда откупорь уши и слушай.
- Я уже откупорился, друг мой, как поллитра. “Тук-тук.”- “Кто там?” - “Сто грамм!” - “Войдите!” - и ловко плеснул обжигающее молочко из-под бешеной коровенки в рот. - Я - весь внимание, приятель.
Старатель усмехулся. Наблюдая за шаловливым постукиванием ногтя по стакану, повторил за мной: “Кто там?” Вобрал в себя питие долгим глотком, утер губы рукавом телогрейки и сам себе с горечью ответил: “Двое с винтовкой, один с лопатой. Расстрельная тройка”.
- Э, нет, так мы не договаривались, божий человек.
- Вот об этом и пойдет речь, “мастер”. О праве быть или не быть божьим... Нет, не человеком, а созданием, точнее будет...
- Тут, как раз, и права никагого. Создал и создал. Запамятовал? По образу и подобию.
- А потом отделил кость, не лишнюю, заметь, от грудины... По праву личного выбора. Отделил и сознательно - с о з н а т е л ь н о! - нарушил целостность замысла. Перенес какую-то незначительную, но важную для целостности замысла, часть человека на другой объект. Хорошо, что не на кикимору какую лесную. И - бац! - девушка. Красивая. Умная, но не совсем...
- Малоумная, - подсказал я, принимая игру Старателя, свойственную практически всем, кто на долгий срок перевоплощается в Робинзоны и, противясь гипнозу одичания, естественным образом становится на своем необитаемом острове Богоискателем...
- Поправка на румб принята, - согласился таежник. - Малоумная, но влюбиться можно. И совокупиться без долгих и неуместных ухаживаний. И с попутным удовольствием продолжить род себе подобных. Подобных - уже себе, не Тому, чьим образом был сам, день назад, до разделения, час назад, до совокупления. Дошло, “красная профессура”? А теперь подумай за чаркой, паря. Что мы имеем?
- А что?
- Размышление...
- Что имеем, то и возьмем. Размышляй, Александр Маркович. Подходим, получается, к самому итересному.
- Получается - да. Самое интересное: на беспредельном уровне познания живое способно творить из неживого - хоть из праха земного, хоть из ребра. Живое - это как бы набор каких-то молекул, химических соединений. Проще, формул. Человек - набор своих формул...
- Крокодил - своих...
- Вот у меня, в углу, бивни мамонта...
- Бережешь для науки? Облысенкованная наука тебе воздаст!..
- Не для науки. Для напоминаний о ней, “мастер”. Напоминания такие: вот тебе мертвая кость, а вот и животина ходячая. Вот тебе кладбище, а вот тебе и Судный день. И мертвая кость обрастает по повелению Свыше живой плотью.
- И вперед с песней!
- Песню отставить! - посуровел Старатель, подражая ротному старшине. - Не перебивай, “мастер”. Выходим к самому главному. Человек - не просто венец творения. Венцом себя именовать горазд и всякий недоеб. Человек - это то, что мы представляем о нем из прошлого и настоящего. И то, что разовьется из него в будущем. Яйцо ведь не представляет, что станет курицей.
- Иногда и змеей...
- Поправка принята, - засмеялся Старатель, снизил уровень “серьезности” своих доводов, чтобы не переусердствовать в наукообразии, несколько комичном при свете ночников и под аккомпанемент тявкающего на психику зверья. - Но вернемся к нашим баранам... Дело в том, что существует два вида человека. Нынешний, а в его потенции - и будущий, чуть-чуть измененный. Условно скажем, на то самое ребро, вынутое на заре истории. Как я догадался, человеку достаточно вернуть то самое ребро, вернее, составляющие его какие-то образования, химические ли, биологические, и он становится Богоподобным. Вернуть или не вернуть - это и есть Гамлетовское “быть или не быть”, а в высших сферах - “право выбора”.
- Доказательства, Вавилов? - Я взял алюминиевую фляжку и демонстративно, поплескивая подле уха, покрыл ее тускло звучащими щелбанами. Разлил, чокнулся с “дерзновенным мыслителем, открывателем новых путей”. Выпил. И, дурачась, повторил: - Доказательства? А то... не будет собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля родить.
- Будет, будет, не сомневайся. Теперь уже будет... точно!
- Доказательства? - не унимался я, балдея от дикости всего происходящего.
- Вот доказательство, Ломоносов, - в копке пальцев Старатель держал таинственную медаль. - А теперь выпьем.
За обильным питьем-разговором выяснилось: надписи, правильнее, кодировки знаков, идущие по окружности на обеих сторонах медали, не идентичны. Разнятся неприметно, всего на один знак. Его, единственного, не достает на тыльной стороне медали с изображением нашей планетарной системы и, следовательно, земного человека.
Выходит, добавочный знак, абсорбируясь в биологической стурктуре, делает земного человека ровней - образом и подобием - неземного, помещенного на противоположной стороне медали - над скоплением чужих космических тел.
Ситуация, как со знаменитой фразой - “казнить нельзя помиловать”. В руках секретный код человечества. И дополнительная к нему - внеземная по происхождению - запятая. И чтобы “хотели как лучше, а получилось как всегда” не смущало незрелые по трезвости умы неумолимой логикой, визуальная инструкция к ней: куда, махонькую, поставить, дабы выглядеть в глазах Всвышнего грамотным. Иначе по глупости и извечному богоборчеству воткнут запятую после слова “казнить” и подготовят себе незапланированный апокалипсис.
С этим, вроде бы, ясно. Полная неразбериха с другим. Из каких сибирских руд добыть ее, хреновину эту, в каких доменных печах выплавить ее, штуковину Божественного замысла? Не указано. Не задокументировано. Печатью не скреплено. И слямзить по привычке не с чего - не “берданка” - “трехлинейка” образца 1891-1938 годов, не фронтовой немецкий мотоцикл “БМВ” - отечественный тяжеловес-самодур “Урал”, не американский пистолет-пулемет Томсона, принявший в ходе Великой Отечественной облик автомата ППШ..
- Откуда у тебя эта медаль? - спросил я, странным образом усекая, что ответ таится в Риге. В Доме Петра Первого, где в росказнях о потустронних явлениях царевых людей и в иллюзорных кошмариках реальных столкновений с петербургской знатью семнадцатого-восемнадцатого веков интенсивно проходило мое довольно нескучное детство.
- С камзола Петра Первого.
- Рига, Шкюню семнадцать, да?
- Хвалю за службу!
- Чего там хвалить? По понятиям! Квартира шесть, Александр Маркович.
- С выходом на чердак?
- Она самая!
- Значит, соседями будем?
- С 1958-го.
- Э, нет. Не совпадает. Я до 1953-го. Потом - в бегах...
- А до побега? Этажом ниже? Там, где аппартаменты Петра и Меншикова?
- Точно, глаз - ватерпас!
- Не глаз, а ухо. Слышал-слышал о тебе. От Степки. От Петечки. От тети Маши. Застеночные твои...
- Как же, помню... помню... Пили, бузили... Все им царь Петр по праздникам мерещился. Грозился придти на октябрьские и запереть в комнате с пустыми бутылками. Этакое, мол, изобрел на том свете наказание. Но... Их еще не было, когда я въезжал. Они послевоенного заезда, под салюты, когда латышей русили. А я... Я к жене - под бочок, еще до войны. Это потом нас уплотняли. А тогда... Нет, не ей, маме ее по наследсту, ну и папе, конечно, дом принадлежал. Вселился, гляжу - бля! музей на дому! И нате вам, без таблички - “руками не трогать”.
- Как это коренному питерцу в музее - и без таблички “руками не трогать”?
- Твоя правда, “как”? Тогда и тиснул медаль. Нашейная-нагрудная, на цепочке... А на ней - магендавид. Наш, правильный. Каюсь, не устоял я перед щитом Давидовым. Амулет все же, как ни кинь! Таки-да! меня уберег... амулет!.. А жену, дочурку новорожденную... И не говори!.. Они из Риги не выбрались. В гетто, и концы в воду, либо в огонь. Утопили, говорят, в Даугаве. Сгорели, говорят, в синагоге. Поди разберись. Я на “Эвероланде”... А они... Фотокарточки... Да вот медаль эта... На цепочке от нее дочурке погремушку подвешивал. Попугайчика. Она еще ни ля-ля-ля, а он, подлец... Вспомню, “мастер”, плакать хочется. Так что Петр пусть на меня обиды не держит. Зачем русскому царю магендавид на камзоле? Шпага, ботфорты - чин по чину. А медаль?.. Сам себя наградит! Там же, там на медали, думалось под ажиотаж, там еврейскими буквами писано... Может, одновременно со скрижалями. На горе Синай. И одной рукой. Его! Божьей! Помнишь, по Библии? Когда сходил Моисей с горы Синай... Помнишь, со скрижалями? После сорока дней и ночей пребывания Там?.. Помнишь, что случилось с его лицом? Оно светилось...
- Ну?
- А ведь от медали тот же эффект. Светишься. Будто тем же огнем она пропитана, что и Моисей.
- Даешь! Теперь догадываюсь, зачем ты себе кликуху новую взял - “Длань господня”.
- Опять не веришь? Что ж, друг ты мой, маловер, поглядись в зеркальце...
- ? - вопросительный знак повис на моих губах, мочки ушей вспыхнули. Я машинально обыскал карманы. - Зеркальце... Где зеркальце? У тебя, случаем, есть зеркальце?
Зеркальца под рукой не оказалось. И я мало-помалу потянулся к выходу из нокдауна. Все же боксер... Мне ли терять самообладание, если мой язык не к носу привязан?
- То-то, - начал лепетать, подбирая слова, - то-то потом Петр доискивался лихого охотника до чужого добра. По ночам являлся, пугая усами и глазищами навыкате: “Лихоимца мне! Лихоимца! Четвертую нечистого на руку засранца!” Ей бо! Лично я свидетель. Да не просто свидетель. Он меня все донимал-донимал... И Меншиков... На него - профи по этой части! - подозрение падало. И Катерина... Тоже на нее падало. А на меня? Я маленький. Кто на меня подумает, пока не забеременеет?
- А что, камзол все еще на месте?
- На месте, на вешалке стоячей. По Гамбургскому счету, Александр Маркович, ты камзол этот еще не пережил. Ему износу нет. И ботфорты стоят. И шпага не колышится. А вот орденов - ни-ни. Говорят, и не имелись в наличии. А вот медаль была. Не простая медаль - не в золоте дело. Чудная. С секретом. Мерцала, по словам очевидцев, по ночам, когда чувствовала доброго человека. И чего-то показывала, как кино..
- Все правильно, - сказал Старатель. - Показывает. Такое кино подчас показывает, что... Насмотришься еще. От сотворения мира и... Иногда мысль складывается, а не вмонтирована ли в нее съемочная камера? Фиксирует все - чистый Голливуд! Потом туман какой-то напускает, и сквозь туман показывает.
- В какую цену билеты на сеанс? - попробовал я пошутить, но не получилось, пресекся голосом.
- А в какую цену жизнь, “мастер”?
- Не понял.
- Вот и я не понимаю. Но скажу тебе одно: какая-то мистическая связь по этим картинам прослеживается между Питером и Иерусалимом. Не знаю, какая. Но будто бы Мессия придет в Иерусалим из Питера. Бред сивой кобылы, скажешь. В пятьдесят третьем, когда Питеру две с половиной сотни стукнуло, крутило мне тут такое кино, закачаешься. И все про Питер, от начала. Про Петровский домик, наводнения, мор людской, неисчислимый. И все про Иерусалим, от Давида. И про цвет ума его, и про кровь предательства, и про запрет Господа - на закладку Храма. И все про Мессию. А что да как не понять. Мистика! Однако чем-то надвременным соединены эти два города. Между собой. И во мне. Я ведь с Невских берегов. И куда бы ни шел, все туда... все туда прихожу. Чаще - в воображении...
- И у меня, - сознался я, - какая-то странная, почитай, тоже мистическая связь с Питером...
Отступление шестое
В давнем том далеке я не солгал Старателю. Даже теперь, спустя четверть века после отъезда в Израиль, эта мистическая связь проявляет себя время от времени. И поэтому, я полагаю, не случайно первая моя российская премия по литературе и журналистике нашла меня, израильтянина, в Санкт-Петербурге, там, где за тридцать лет до того закладывалась моя литературная судьба.
В 2003 году, 16 июня, я стал лауреатом Международного конкурса “Петербург. Возрождение мечты”, учрежденного “Медиасоюзом” совместно с Информационным управлением Президента России к 300-летию северной столицы. В номинации “Зарубежные СМИ”.
И сейчас, в шестом отступлении от фабулы повести, находясь в Иерусалиме, на смотровой площадке Башни Давида, откуда в исторической перспективе открывается мир прошлый и, наследник его на Земле, мир грядущий, я не могу отказать себе в желании поместить на этих страницах мой конкурсный очерк “Формула Петра Первого”.
Формула Петра Первого
Казалось бы, только вчера мы отмечали трехтысячелетие Иерусалима. А сегодня вступаем в трехсотлетие Петербурга. Объединяет эти две даты мистическая цифра 30, указывающая на долголетие и непроходящую земную славу.
Но на этом мистическая связь между этими городами не прерывается.
Петербург - в т о р а я столица России, после Москвы. Иерусалим -
в т о р а я столица древнего еврейского царства, после Хеврона. Петербург ныне ассоциируется с именем в т о р о г о президента России Владимира Путина. Иерусалим ассоциируется - и ныне, и встарь - с именем в т о р о г о царя древней еврейской страны Давида. Символом Петербурга служит лев, изваяние царя зверей самое популярное на берегах Невы. Символом Иерусалима является также лев, его каменное подобие полнит парки и улицы древнего города. Музыкальной маркой джазовой окраски Петербурга, некогда, в шестидесятых, был Ленинградский диксиленд Севы Королева. Музыкальной маркой Иерусалима, естественно, джазовой окраски, стал Иерусалимский диксиленд под управлением Бориса Гаммера.
Стоит закрыть глаза, и на волнах музыки понесет тебя в прошлое, в облюбованное тобой время.
Первая остановка - 1974 год, месяц май. Именно тогда, в мае 1974 года, Ленинград выдал мне путевку в русскую литературу, напечатав на страницах юношеского журнала “Искорка” мою документальную повесть “Было солдату двенадцать” - о самом молодом в Советском Союзе кавалере ордена Славы Владимире Тарновском.
Вторая остановка - 1958 год. Рига. Улица Шкюню, 17. Дом моего детства. В этом доме, расположенном в самом центре Старой Риги, напротив Домского собора со знаменитым на всю Европу органом баховского звучания, жил и Петр Первый, когда наезжал в столицу Латвии. В годы советской власти его аппартаменты были превращены в коммунальную квартиру. Правда, одна комната, почти всегда опечатанная, считалась музейной. В нее приводили иностранных туристов и партийных боссов поглазеть на личное имущество Петра Первого - его комзол на деревянной стойке-вешалке, шляпу, гигантские ботфорты и, что мне было особенно любо, шпагу в ножнах, длинную-предлинную. Туристы глазели и охали, не догадываясь, что мешают своим посещением жильцам “царской” коммуналки готовить обед. Да-да, общая кухня нагло располагалась в гостиной этой музейной квартиры, украшенной расписным потолком, этаким немыслимым шедевром из ангелочков и полуголых женщин, охраняемых государством, конечно. Здесь, в отсутствие туристов, кряхтели керогазки и примусы, наводя копотью порчу на антикварную живопись. За что домохозяйки были неоднократно оштрафованы родным государством, стоящим на охране искусства, и биты собственными мужьями, которым было не до искусства, когда не на что выпить и закусить.
Я родился в Оренбурге, на родине “Капитанской дочки”, а вырос в Риге, в этом доме на Домской площади, под одной, можно сказать, крышей с Петром Великим. Правда, в разные времена ходили мы по одним и тем же половицам, поднимались по одним и тем же крутым лестницам. Времена разные, а мысли навевают похожие. Мысли об Иерусалиме. Мне: “Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим.” Петру Первому: “Петербург = Иерусалиму - 0”. Так, или приблизительно так, звучала формула Петра, по мнению жителей дома моего детства. Жителей, которые, божась, утверждали, что воочию видели здесь не раз русского царя в компании с Меншиковым и Екатериной, в призрачном, надо добавить, состоянии. На основе их рассказов и личных своих впечатлений я написал короткую, почти документальной точности повесть “Дом Петра Первого”.
Все мы знаем, что существует небесный Иерусалим. Но мало кто из нас, кроме бывших жильцов дома Петра Первого, знает, что, должно быть, существует и небесный Петербург. Во всяком случае, такой, по предположениям многих людей, жил в сердце Петра. Такой, небесный, он и увидел, уйдя в запредельный мир. Именно поэтому - а, может, и по другим мистическим причинам, располагая, допустим, знанием о месте рождения Мессии двадцать первого века - являлся жильцам бывшей своей квартиры, пытаясь передать им свои потусторонние знания. Но его небесные знания не очень-то доходили до земных мозгов, наполненных трезвыми мыслями о перевыполнении плана, хлебе насущном и бутылке “чистой, как слеза младенца”.
Остановка третья. 1941 год. Ленинград. День, когда сомкнулось кольцо блокады. Первый день. Он мог оказаться и последним днем блокады. Невероятно? Очевидное - зачастую невероятно.
В Риге, в первой половине семидесятых, знавал я полковника в отставке Каверина, бывшего командира третьей морской бригады (бригады морской пехоты). На Халкин Голе он был оперативным помощником маршала Жукова. В начале войны, откомандированный из оперативного отдела штаба ПрибВО в действующую армию, он сформировал из разрозненных частей дивизию и шесть раз выводил ее из окружения, пока не пробился из Латвии к Ленинграду. И здесь, получив приказ наступать, он прорвал кольцо блокады тотчас же, как оно сомкнулось вокруг северной столицы. И обратился к командованию за подкрепленим, чтобы расширить плацдарм и укрепиться на завоеванных позициях. Когда командующему фронтом донесли о нежданной удаче полковника Каверина, он испугался этой удачи, как смерти. И приказал полковнику Каверину немедленно отступить на занимаемые ранее позиции.
Полковник Каверин и отступил. Под угрозой расстрела. Но, на свое счастье, заручился письменным приказом об отступлении. Иначе... Он догадывался, что “иначе”...
На войне как на войне. Командующего сняли с треском. Из Москвы прислали Ворошилова. Он прибыл в расположение войск Каверина, чтобы собственноручно расстрелять комдива за отступление, совершенное “вредительски”, сразу же за успешным прорывом немецкой блокады. Приказ об отступлении, подписанный предыдущим командующим, спас полковника Каверина от пули первого советского маршала.
- А не подчинись я приказу, не отступи тогда, - вспоминал Алексей Каверин, - может, и не было бы блокады, во всяком случае в том ее виде, в каком мы ее помним. Может быть...
Мы сидели с ним на кухне. Попивали водочку и обсуждали рукопись книги “И заговорило белое безмолвие” - книги, написанной мною о его боевом пути. Книги, которая по-новому могла осветить некоторые, неясные для историков моменты Второй мировой войны, и которая так и не увидела свет, ибо, по мнению литературно-партийного начальства, нельзя было еще “обнародовать” письменный приказ командующего Ленинградским фронтом об отступлении. Приказ, хранившийся в нагрудном кармане походной гимнастерки полковника Каверина.
Остановка четвертая. Опять Ленинград 1941 года. И опять история, вряд ли кому известная. Невероятная история Димы Корзенникова, сибиряка, с которым я познакомился в таежном городе Киренске, на севере Иркутской области. Документальную повесть о нем я назвал “Феномен образца 1941 года”. Книга должна была выйти в Восточно-Сибирском издательстве в 1975 году, к тридцатилетию Победы. Но... Как сообщил мне в письме главный редактор издательства господин Балдаев, “компетентные органы” посчитали преждевременным выпуск в свет книги о Диме Корзенникове. По их мнению сейчас, в канун тридцатилетия Победы, все зарубежные СМИ пристально следят за нашими публикациями на эту тему и всякая случайная оплошка может вызвать...
Что вызвать? Какая оплошка? Дело в том, что Дима Корзенников был глухонемым от рождения. Любая медкомиссия должна было его забраковать от службы в армии. Но он служил. Он пошел добровольцем в Советскую армию. И героически дрался с врагом. Защищал Ленинград. Так что же - это ставить ему в вину?
Он воевал в особом, девятом спецподразделении, сформированном Приморским райвоенкоматом города Ленинграда для глубоких рейдов по тылам противника. В ходе одного из боев, спасая раненого командира, он попал в плен к немцам. Таежный медведь, размазанный на допросах в кровавую кашу, вызывал ярость у эсэсовцев своим нечленораздельным мычанием. Ни одного слова они не могли вырвать у него, как ни бились.
Если бы они знали, что он глухонемой. Но они этого не знали. Не знал этого и местный полицай, который присутствовал на допросах. Его нервы не выдержали, и он табуреткой раскроил голову немецкому офицеру.
Началась паника. И Диме удалось, схватив со стола автомат, убежать куда подальше. Через какой-то срок блужданий по лесу он вышел к своим. Свои убедились: русским языком не владеет, мычит по-басурмански, в руках немецкий автомат. Значит, фашистский лазутчик. И приговорили к расстрелу.
Но, видимо, он родился в счастливой рубашке. В самый последний момент, когда он находился на прицеле у смерти, в землянку, где зачитывался приговор, зашел военный комиссар Приморского района, тот самый, который знал его в лицо. Это и спасло Диму от смерти. Потом он был награжден “Медалью за отвагу”, воевал на Невском пятачке, пока после тяжелого ранения не был эвакуирован в тыл. А затем он вернулся в родной город Киренск, где продолжал работать токарем на судоремонтном заводе.
Книги о своем подвиге он не увидел. Она у меня по сей день хранится в рукописи. Но очерк “Когда страна быть прикажет героем...” во втором номере иркутского альманаха “Сибирь” за 1975 год, очерк, героически напечатанный сибиряками, может быть, по недогляду “компетентных органов”, он успел прочитать. К слову, очерк о Диме Корзенникове тут же перепечатали в киренской газете “Ленские зори”, где я тогда работал и г д е при всем желании редакции мы не могли самостоятельно, без определенных “санкций сверху” его опубликовать. Негласное “добро” на публикацию дал нам “в ы ш е с т о я щ и й печатный орган” - альманах ”Сибирь”.
Будь Дима Корзенников солдатом английской или американской армий, о нем, несомненно, сняли бы фильм, он купался бы в долларах и раздавал автографы. А так... так он должен был думать под сурдинку “компетентных органов”, как бы чего не вышло... как бы чего... А мы смотрим голливудские фильмы, такие как “Враг у ворот” о величайшем снайпере Второй мировой, защитнике Сталинграда русском солдате Зайцеве и размышляем о житье-бытье российского кинематографа. Тогда было нельзя, а сейчас невозможно.
Время - вперед!..
Этим призывом к бегущему времени заканчивался мой очерк 2003 года.
В ту пору, когда я поставил в нем последнюю точку, возникал соблазн: а не дописать ли еще несколько строк? Может быть, не лишних, с учетом того, что доверенное бумаге по наитию, зачастую, не случайно, и имеет свойство сбываться. Эти дополнительные строчки - из тонюсенькой, самодельной книжицы стихов и размышлений “Кон” с моими рисунками. Напечатана на копировальной машине тиражом всего в двадцать экземпляров и роздана, в основном, близким людям. Книжица важна для меня и тем, что в выходных данных значится - август 1991 года - дата, отсылающая нас к трагическим дням московского путча. Тогда чуть ли не каждого тянуло к пророческому жанру. Не все, конечно, Нострадамусы... Однако, прочтем?
“Знак Рожденья - Лев и Солнце,
и потрава Невских вод.
Он родится инородцем.
Он родится в пятый год”.
Толкование этого четверостишия доверяю специалистам. Полагаю, оно того стоит...
Мои же верительные грамоты насчет полномочного права работать в пророческом жанре помещены в книге “Круговерть комаров над стоячим болотом”, страница 314. Издана в Иерусалиме, распространялась в Израиле, Европе, Северной Америке. При Брежневе была тайно доставлена в Москву. (Куплена, по всей вероятности, в Мюнхенском книжном магазине Нейманиса). Прочитана. Помечена грифом: “Секретно. Для служебного пользования.” И в период, казалось бы, нескончаемого правления Кремлевских старцев, отправлена на вечную ссылку в спецхран. Сейчас, наверное, доступна любому, хотя по статусу является библиографической редкостью.
Всего несколько предсказаний, но - сбываясь раз за разом! - они в указанные сроки перекроили представления о геополитической карте нашего мира. Читаем:
1. Смерть Л.Брежнева состоится 10.11.1982 года. (Сбылось в срок.)
2. Преемником Л.Брежнева изберут Ю.Андропова. (Избрали незамедлительно, не отходя от гробового входа).
3. Начало смертного мора в рядах Политбюро. (Пошло-поехало).
4. 1983-й - уход с политической арены М.Бегина. (Как сказано, так и произошло. Будучи по-прежнему главой правительства Израиля, Менахем Бегин в 1983 году заперся в своем доме и больше из него не выходил, уйдя раз и навсегда с политической арены, как и было ему предсказано. Удивительно, но факт и впрямь исторический).
- Третья мировая война не начнется. (Имеется в виду 1983-й год).
- Не начнется она и в 1984 году.
- Ждать ее надо в 1989-ом!
Подтверждение подлинности верительных грамот полномочного представителя в пророческом жанре, вручаемых читателям под общей обложкой с моими книгами, сегодня дает и российская пресса. Газета “Московский комсомолец”. Номер от 15 июня 2004 года. Статья ”История прижизненных реинкарнаций писателя и художника Ефима Гаммера”:
“Итак, бесспорные прогнозы ясновидца, подтвердившиеся в близком будущем. Правда, есть один “прокол”: мировая война в 1989 году.
- Но разве ее не было? - лукаво щурясь, спрашивает Ефим.
- Слава Богу, пронесло...
- Если считать, что цель всякой мировой войны - смена экономической формации и перекройка границ побежденной стороны, то эта цель в 89-ом была достигнута, хотя и бескровно. Политическая карта мира после серии революций в Восточной Европе приняла иной вид.
Ефим Гаммер продолжает вкладывать в свои тексты информацию о будущем. А ключ к расшифровке, во избежание накала страстей, даст лишь задним числом. По-моему, этически безупречный прием”.
Савелий Кашницкий,
Иерусалим - Москва.
12. Дар Соломона Мудрого
- Эта медаль - наследие царей, - говорил Старатель. - Израильских, африканских, российских. Поверье гласит... Но лучше... лучше... Сначала, давай откроем Библию... Страница триста семьдесят три... Да куда это повернуты твои глаза, “мастер”?
Знойное солнце купалось в зените. В резких перепадах света и тени мощеная камнем дорога втягивалась под арку Иерусалимских ворот. Верблюды шли чинно, вереницей, важно оттопыривая губу и покачивая навьюченными на горбы тюками. Гортанные выкрики курчавых всадников созывали любопытных мальчишек с ближайших улиц. “Куши! Куши! Африканцы! - восклицали они. - Кмо эц шахор! Как черное дерево! Леан отем? Куда вы? Ле Шломо амелех? К царю Соломону? Бой! Бой итану! Анахну гам лешам! Идем! Идем с нами! Мы тоже туда!” И верблюды, послушные указке, доверчиво сворачивали за мальчишками к резиденции Соломона Мудрого...
- Убедился? - донеслось до меня словно спросонья.
- Что? - не понял я.
- Убедился?
Я не понял Старателя снова.
- Страница триста, говоришь?.. Какая, тридцать?.. Да ну тебя! - я вяло отмахнулся.
Где возьмешь тут Библию? И чего ее открывать? Она и без того открыта на нужной странице:
“Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками.
2. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону, и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце.
3. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей.
4. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил.
5. И пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться.
10. И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни, никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону.
13. И царь Соломон дал царице Савкой все, чего она желала, и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее”.
Солнце, обжигаемое золотоносным свечением Храма, стлалось у Масличной горы. Удлиненные до человеческой фигуры тени от деревьев ложилось под копыта верблюдов. Чинно и спокойно, с осознанием величия исполненной миссии, двугорбые великаны проходили под аркой Иерусалимских ворот и вступали с мощеной дороги на грунтовую, на ту, что вначале широка и приметна, потом, на пути к горизонту, сужается и мало-помалу превращается в тропу. Но не в обычную - тропу, проложенную в вечность. Ибо туда, в вечность, и везли корабли пустыни свой бесценный груз, тайный дар Соломона Мудрого царице Савской...
- Убедился?
- Что? - не понял я.
- И сейчас не убедился?
- О чем ты?
Я недоуменно смотрел на Старателя. Вернее, мне предсталялось, что недоуменно. Его я почти не различал в пьяном тумане... Белесые обводы тела. Раздвоенность лица. Левое, омоложенное, будто вырезано в виде круглого медальона Коненковым на входной двери в рижский Дом Петра Первого. Второе, осеребренное от бровей до кончиков волос, чеканным щитом приклепано Бецалелем к вратам в иерусалимскую Башню Давида. А между двух лиц, на подвесном мостике, как бы в центре мира, - вереница верблюдов. Подвесном? В центре мира? Между?.. В центре мира, на подвесном мостике между Домом Петра Первого и Башней Давида...
- Убедился?
- Что?
Я еще ни в чем не убедился. В дремотном состоянии трудно в чем-либо убеждаться. Инерция воли, инерция духа, инерция скольжения разума.
Меня томило желание думать и анализировать.
Поразмышляем-посудачим? - думал я по инерции.
Царица Савская получила от царя Соломона н е ч т о сверх того, что он подарил ей своими руками.
Что?
Что, по версии хронистов прошлого, Отец земли Израйлевой, хозяин несметных сокровищ, способен дать сверх того, что п о д а р и л своими руками?
Наследника!
Ничего иного от мудрейшего в мире обладателя семисот жен и трехсот наложниц и не искала для короны царица Савская. Восток, сознавала при закладке династической линии, - дело тонкое. А где тонко, сознавала, там, на Востоке, в отличие от Запада, не рвется. Там тянется-тянется нескончаемой нитью сквозь века и страны. Тянется из Иерусалима, от брачного ложа, и дотягивается до Аддис-Абебы, а оттуда до Парижа, Лондона и Москвы, еще не существующих в проекте.
Сознавала она правильно, подтверждением тому наследники семени Соломонова - ее сын, внук, правнук, пра-правнук и... И сколько веревочке не виться, но на конце ее обязательно отыщется Хайле Селассия Первый.
Прямой потомок царицы Савской и царя Соломона Мудрого, уступающий, правда, в умственном развитии своему знаменитому предку, король Хайле Селассия Первый приехал как-то в Москву с дружеским, надо полагать, визитом. Здесь он, не вникая в смысл и суть классовой борьбы, выставлялся перед Кремлевскими антисемитами своим... Чем? Своим горделивым родством с еврейским царем.
Поразительно, но в неразберихе политической лихорадки, свойственной “низам, которые не хотят, и верхам, которые уже не могут,” - он чуть было не стал, по примеру египтянина Насера и алжирца Бен Белы, Героем Советского Союза. Они - понятно за что. А он? За свое, наверное, еврейское счастье. Это надо же, слыть евреем, и уродиться не Карлом Марксом, не Энштейном с Эйзенштейном, не Ботвинником с Талем, а - нате вам! кушайте! - эфиопским царем. Кому это нужно? Ведь если еврей один раз уже царь, то в другой раз ему обязательно устроят погром или переворот, но скорей всего, и погром и переворот дуплетом, чтобы не мелочиться на глупостях..
- Убедился? - донимал меня, как назойливая муха, голос Старателя.
Я дремотно прядал головой, но не отводил, как мне казалось, глаз от мерцающего снежными хлопьями телеэкрана.
Выступая перед камерой, Хайле Селассия Первый упомянул в студии о дарованной его целомудренной пра-пра-прабабушке отличительной медали Моше-рабейну, свидетельницы получения Десяти Заповедей, заполнения скрижалей Откровения огненными письменами и переговоров еврейского пророка со Вседержателем.
Была ли она выдана Моисею на горе Синай, либо прежде, при первой встрече с Господом, из неопалимого куста, и была ли при нем, как и посох, ставший змеей, во дни борьбы с фараоном и десяти казней египетских - это неведомо. Но доподлинно известно: не человечьими руками явлены люди и звезды на ней, на двух магендавидах, симметрично, по обе ее стороны. Ибо сказано было на горе Синай: “Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли”.
Предназначена медаль, - излагал Хайле Селассия Первый, - для носителей царевой Давидовой крови, от сына его премудрого и дальше, до Мессии двадцать первого века, избранных по уму и сердцу, из рода в род. Но утеряна, считай, за три столетия до сегодняшнего дня. В одночасье с шустрым Абрамчиком Ганнибалом. Курчавый потомок Соломона похищен из дворцовых покоев неверными, в Константинополе выкуплен из рабства русским послом и подарен царю Петру Первому.
По причине отсутствия уворованной вместе с пацанчиком медали он, Властелин Эфиопии, не привез сию драгоценность в Москву и лишен удовольствия показать ее по телевизору. Чего нет - того нет... И многозначительно осклабившись, Хайле Селассия Первый добавил: но ведь и то, что имеется, не всегда покажешь...
Какой подтекст вкладывал этот чужеродный носитель голубой еврейской крови в свое, кстати очень доступное разумению партийных толкователей зарубежного языка, притворное сожаление?
Партийные толкователи нашли в подтексте хитрый еврейский смысл и расшифровали Кремлевскому руководству подтекст, с хитрым еврейским смыслом - одновременно. И те, посовещавшись, оставили его в штанах, и без последствий. Хотя не простили... В подтексте с хитрым еврейском смыслом углядели - намек... тонкий намек на толстые обстоятельства. Мол, даже располагая Моисеевой медалью “За штурм горы Синай”, Хайле Селассия Первый не наградил бы ею товарища Брежнева, Леонида Ильича, пока еще героя менее знаменитого участка суши - всего лишь Малой земли.
Не его ли стараниями наследника Соломона Мудрого отлучили от власти? Перемудрил, братец-король!
Хайле Селассия Первый кончил дни свои под домашним арестом, чувствуя себя изгнанником в собственной стране. И маленькие звездочки Героя Советского Союза мерцали в его старческих глазах.
Кончил дни в одиночестве, так и не допетрив: почему идиомы амхарского языка в переводе на доступные идиомы русского столь сильно повлияли на его жизнь и благосостояние?
Он ведь имел совершенно иное в виду, не оскорбительное для дружеского советского народа, самого читающего в мире произведения классиков Марксизма-Ленинизма, когда говорил: “Но ведь и то, что имеется, не всегда покажешь”.
Он имел в виду Ковчег Завета, да-да, тот самый, библейский, который путешествовал с Моисеем и его соплеменниками сорок лет по пустыне.
Как гласит предание, Ковчег Завета вместе с Моисеевой медалью был вывезен царицей Савской в Эфиопию, где, в глубокой тайне, не выставляемый на обозрение вороватого люда, и хранится по сей день - в одном из храмов.
Евреям это известно.
Эфиопам это известно.
Русским, вернее их партийным пастырям, это неизвестно.
Им неизвестно, а страдать, известно кому.
Из глубины телевизионного тумана выплывали в черном свечении зрачки Хайли Селассия Первого и, словно космические дыры, затягивали в стремительно вращающийся туннель. Сознание, не концентрируясь на мысли, с невероятной скоростью космического аппарата проносилось по антрацитному коридору и приземлялось в солнечном круге, по ту сторону шизофренического пространства. Иначе не скажешь, когда оглядишься - оазис, пальмы, эбонитового цвета служанки, король в тяжелых парчовых одеждах и легких сандалях на босу ногу, белесый переводчик в шляпе и парусиновом костюме, туфлях и галстуке...
Сидя на кушетке, у стола с восточными сладостями, Хайле Селассия Первый мученически всматривался, в поисках загадочной русской души, в текст Кремлевской, подаренной со значением книги “Арап Петра Великого”. И ни фига там не видел!
Нет, чтобы преподнести, согласно протоколу, булатный ятаган с изумрудом на рукоятке, либо хоровод отглаженных и постиранных комсомолок, вручили художественное произведение. В придачу с толмачом. Толмач Вася, так себе, пухленький, сдобненький, еще из лейтенантов - не зачерствелых полковников, чести не прибавляет, но и не умаляет. А книга... не столько книга, сколько название “Арап Петра Великого” задевает династическое достоинство гордого абиссинца, пра-правнучатого племянника Абрамки Ганнибала, раба и крестника Петра, а по другой ветви раскидистого генеалогического дерева, поди, родственника и самого автора повествования А.С. Пушкина.
Не разобравшись с хитрыми подвохами короля африканской страны, омавзолеенные пиарщики всучили ему “Арапа” со скрытым наказом: Пушкин - это наше все! Следовательно, если бы Ганнибалкина медаль дошла до него по наследству, то сегодня мы с полным правом именовали бы его Мессией, а себя его апостолами, партийными, разумеется. И пусть в истории нет сослагательного наклонения, но в книге Пушкина всегда найдется место подвигу, нет не физическому, на уровне ать-два, а подвигу мысли. И совершить на досуге, в отключке от государственных дел этот подвиг выпало Вам, Ваше королевское величество. Книга - источник знаний! Читайте и выискивайте между строчек у Пушкина, куда задевал, бездельник, прадедовую медаль. А ведь задевал, непременно задевал, шельмец! Не по этому ли поводу похвалил себя в письменном виде: “Ай да Пушкин, ай да молодец!” И когда? Не в ту ли ночь, когда в 1828 году остановил свое быстрое перо на двадцать третьей строчке сверху от начала седьмой главы “Арапа”? Зачем остановил? Что ему, баловнику судьбы, не доставало? Сидел себе, посиживал в тихой благодати. При свечах и нянюшке Арине Родионовне. В Михайловском - усадьбе, пожалованной императрицей Елизаветой Петровной одновременно с рижским Домом Петра Первого прадеду по матушке Абраму Ганнибалу. В таких коммунальных условиях, пусть и без парового отопления, зато с паровыми дворовыи девками, мог бы и продолжить жизнеописание предка! Ан нет! Не пожелал. С неоспоримой очевидностью выходит: он сознавал, что делал. Сознавал: дальше, скатываясь в произведение вниз от двадцать третьей строчки, он обязан вывести дознание на след монаршей медали и раскрыть секрет ее местопребывания в наши дни. Сознавал, но долг перед Отечеством не исполнил. Остановил свое летучее перо и вернулся к “Евгению Онегину”. Почему? Отчего? И что вообще “Пушкин - наше все” мог иметь против “все наше - Брежневу”, буде Леонид Ильич удостоен отличительной медали Мессии двадцать первого века.
Так думал немолодой король, летя в пыли своих воспоминаний, всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. Лишенный, однако, трона. Кремлевская книга покоилась на его коленях. И он, слюнявя пальцы, переворачивал страницу за страницей, пока не добрался до самой подозрительной.
- Читай! - сказал толмачу Васе.
- На каком языке?
- На родном!
- Изволите слушать?
- Ты, блин, трави по-русски, я, для проверки, по-амхарски. Мабуть, разночтения и отыщутся.
- Свят! Свят! Свят! - пробормотал под нос толмач Вася, - воистину свят! - не зарастет народная тропа, и весь он не умрет, а дух его в заветной лире пройдет по всей Земле великой и назовет его всяк-всячески язык, из Абиссинии - король, а из степей - калмык.
- Читай, чучмек!
Толмач Вася, поерзав на кушетке, приступил к декламации.
- Произведение Александра Сергеевича Пушкина. “Арап Петра Великого”. Писано в 1827-1828 годах прошлого века. Глава третья.
- Все верно. Поехали дальше.
- Читаю...
- Ну, сын человеческий?
- Итак... “На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима...”
- Стоп! - сдержал Хайле Селассия Первый резвого своего толмача.
- Что? - искательно спросил он.
- Абрама.
- В тексте, господин король, “Ибрагима”.
- В жизни Ганнибала звали Абрам.
- В книге Пушкин его перекрестил на Ибрагима.
- Почему перекрестил на мусульманский лад?
- Потому что существует правда жизни и правда литературы, - разъяснял толмач Вася поведенческие правила гусиного писательского пера. - По правде жизни литературного Ибрагима звали Абрамом, а по правде литературы истинного Абрама проще величать Ибрагимом, ибо пока эфиоп перекрестится, русский лоб разобьет.
- Кому? - переспросил, не поняв народной мудрости, король Хайле Селассия Первый, сам уже литературный образ.
- Знать бы - “кому!”... жилось бы легче. А так... так - кому-кому!.. кто под руку попадет.
И сгоряча саданул по лбу короля.
Смутился. Нахлабучил шляпу на брови. Присел сбоку от него на кушеточку. И тихими словами повинился.
- Русская душа - потемки. Заплутал, сидючи у вас на лавочке, ну и... Другие уже в капитанах ходят, а я...
Король развел руками:
- Издержки перевода. Писал бы Пушкин ясно - что? когда? где положена... И никаких забот. Медаль у Брежнева на лацкане, у тебя четыре звездочки на погонах. Но...
- И за что только дают им “классиков”? Ума не приложу!
- Ума и не надо. Читай дальше, авось и так допетрим... что? где? когда?
- Читаю. Итак, - поправил узелок галстука для усиления официальности в голосе. - Произведение Александра Сергеевича Пушкина...
- Слышали...
- “Арап Петра Великого”...
- Издеваешься, шлемазл?
- Никак нет! Так мне по формуляру положено. Я говорю - магнитофон запоминает. Точка!
- Точка?
- По тексту, господин король, точка. По смыслу - многоточие.
- Продолжай.
- Писано в 1827-1828 годах прошлого века.
- Как раз тогда, когда умер... Гойя...
- Какой гой я, господин король?
- Ты - рядовой, необученный. А он великий Гойя. Умер 16 апреля 1828 года. Испанский художник. Автор “каприччос”, страшных фантазий больного воображения. Мабуть, меня изображал...
- До визита в Москву? Или после?
- Полагаю, после...
- В списках ваших приближенных - ни “до”, ни “после” - не значится. Может, он и затырил медаль, Фантомас! По годам в самый раз! А мы ищи-свищи... выполняй распоряжение начальства...
- Читай, дурак!
- Нет приказов невыполнимых, есть нерадивые подчиненные!
- Читай!
- Читаю... Итак... Глава третья... строка вторая к низу.
- Куда?
- К низу... ну, к этому-самому.
- Понял. Продолжай, но не отвлекай меня девочками.
- Продолжаю, господин король. Итак... “поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном”.
- Кто кого поздравил?
- Царь Петр...
- Абрама?
- По вашей версии, Абрама, господин король.
- А по вашей?
- Опять еврей обошел русского. Не успел из Франции в Россию приехать, и... Где уж тут двести лет вместе?..
- Триста, балбес! Считать не научился!
Толмач Вася воспротивился:
- Я по граммам считать мастак. Сто, двести, пятьсот, литр, штоф...
- Сухой закон, Вася!
- Принято и подписано.
- Читай дальше. Думаю, где-то здесь и зарыта собака.
- Читаю. Итак... “Придворные окружили Иб...”
- Кого?
- Того, кто по правде жизни, - выкрутился толмач.
- Вот так и читай!
- “Окружили...”
- Абрама... Учти, Абраму выказывали тогда уважение, не было еще никакого Ибрагима даже в задумках его потомка. Досталось, видно, человеку в лицее от нерадивых двоечников-антисемитов.
- Тогда еще не было антисемитов в России! Мы только двести лет вместе.
- Были бы евреи, антисемиты найдутся, - нравоучительно поправил Васю многоопытный король Хайле Селассия Первый. Поправил и повелел: - Читай дальше!
- Читаю. Итак... “Всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать”.
Тут, при упоминании обеда, ухо высокочтимого слушателя вздрогнуло, покрылось огненными отметинами. И король, торжествуя, вскричал:
- Вот где собака зарыта!
Запахло паленым волосом.
Толмач Вася с придыхом поинтересовался:
- А как распознать, та ли это собака, нашенская, из “Герасима и Муму”? Или какой английский дог?
- Поясняю специально для партийных придурков, не знакомых с дворцовым этикетом. Зачем, спрашивается, адмирал Головин отозвал Абрамку в сторону. Обеда ради? Кушанье, видите ли, у него пригорит. Враки! Не станет придворный адмирал встревать поперк царя-батюшки со своими приглашениями. Что они там, по царским покоям, голодными ходят? Хрен тебе!
- Хрен редьки не слаще, - покорно принял пояснение толмач Вася.
- Не на обед приглашал Головин бывшего раба, а наставлял его втихоря, как выйти из забавного положения, когда он по чину и званию превзошел самого царя. Представляешь, какой простор для дворцовых интриг?
- Гм-м... для дворцовых? Никак-нет, не представляю.
- Перекуйся на партийный манер и сообрази.
- По партийной линии соображать - два раза по сто, и нет проблем! Если начать изучать партийный этикет в его капитанские годы, то первым секретарем станешь, скорей всего, уже на том свете.
- Дворцовый этикет будет попроще. По нашим правилам рекомендовано: сразу же после получения из царевых рук того-этого вложить в те же сиятельные руки нечто, превосходяшее царский дар. Лучше, по стоимости. Вот об этом и намекнул адмирал Головин, делая вид, что приглашает Ганнибала на обед.
- И?.. - переводчик округлил глаза, изображая бойкое продвижение мысли к цели.
- Никак догадался, Вася, а?
- Башковитый!
- Ум у тебя, согласен, на месте, когда не в заднице.
- Бьешь по заднице - идет в голову, - откликнулся Вася-толмач русской народной мудростью.
- Бьешь-бьешь... Дурь не выбьешь, - отозвался эфиопской мудростью Хайле Селассия Первый. - А подношения - здравому смыслу подмога. Ты мне, царь, капитан-лейтенанта. Якобы в чине поднял над собой. Но ведь и я не простак-Ганнибалка, что за границей. Быть над тобой - себе дороже. Я тебя, дорогой Петр, подниму куда выше, сам туда не пойдешь - зажмуришься! Раз пошла такая пьянка, примай от меня, бомбардир, медаль Моисееву. Выдана на вечное хранение пра-пра-праматушке Соломоном Мудрым. Для передачи породителю Мессии. Либо... либо самому!.. Мессия ты нашего времени, отец-благодетель!
- Вот где собака зарыта?
- Вот где! И не английский дог, вашенская!
- Нашенская! Нашенская!
- У попа была собака.
- Он ее любил
- Она съела кусок мяса.
- Он ее убил.
- Убил и закопал.
- И на могиле написал:
- “У попа была собака”.
- “Он ее любил”.
- “Она съела кусок мяса”.
- “Он ее убил”.
- “Убил и закопал”.
- “И на могиле написал:”
- ... .... . .... ..!
- ... ... .. ...!
Отступление седьмое
Доктор наук Роман Гершзон - в моем радиожурнале “Вечерний калейдоскоп” экскурсовод по Иерусалиму, дает такую историческую справку о царице Савской: она появилась на сексуальном горизонте Соломона Мудрого в ту пору процветания еврейского царства, когда он установил жесткий контроль на “дороге пряностей”. По ней, бегущей вдоль Красного моря, шли на север богатые караваны из государства Сава, лежащего на Аравийском полуострове.
Ослабить эту таможенную удавку и вызвалась чудесница Савская, располагая только щедрыми приношениями и своими, надо полагать, неотразимыми женскими чарами. Даже титула, и того у нее не было подходящего. А для переговоров на высшем уровне, по правилам той эпохи, следовало им обладать, иначе не пустят и на порог, не то что в опочивальню. Однако, по установкам той же эпохи, во избежание дипломатических проблем, титул выдавался на временное пользование. Вот им, временным, и воспользовалась девушка Билкис, посланница государства Савы для особых поручений очень тонкого свойства. И стала именоваться - сначала на аудиенциях, а потом и в объятиях Соломона Мудрого - царицей Савской.
Не имея семи пядей во лбу, догадаешься: смягчения таможенного контроля красавица добилась в рекордные сроки, и девять месяцев спустя, в сроки, узаконенные беременностью, родила она дитя, родоначальника эфиопской императорской династии Негусов.
По преданию, первый же Негус, плод возвышенной любви, сразу же, как подрос, совершил уголовно-наказуемый поступок, предвосхитив для нарождающихся у евреев арабских сказок появление Багдадского вора.
Будь царица Савская “аидыше маме”, она непременно сгорела бы от стыда. А так у нее горели разве что мочки ушей, и то - от горделивого волнения за сына, о котором соседи беспрестанно судачили: “Ну, и пострел! Весь в дядю Моисейчика! Тот увел у фараона весь еврейский народ, а этот... этот у еврейского народа увел достояние Моисейчика - Ковчег Завета. Шельмец!”
Заменив Ковчег Завета подделкой, смышленый отпрыск мудрости и куртуазности умыкнул его из Иерусалима. “Что хорошо царю-батюшке, - размышлял он в седле, покачиваясь на четвероногом транспортном средстве в одном ритме с законами древней логики, - не может быть плохо для его единокровного сына. Подарок отца, Моисеева медаль, у меня в кармане. Папаня, правда, наставлял: “Не носи ее на груди или в носу, как папуас. Не украшение! А...” Пойми его и не свихнись. “Носи ее только на лбу!” - будто бы в помощь недоразвитому мозгу. “Чтобы дурные мысли, чуждые заповедям, не посещали пустую голову”. Однако в нашу, не чистую на руку дохристианскую эру, карман надежнее. Моисеев ларец у меня за спиной, на попутном верблюде. Что еще не достает человеку для полного счастья? Мессии? Будет и Мессия! Все сопутствующие ему аксессуары уже наличествуют. Остается обзавестись плодовитой супругой и понести Давидово семя через века и страны”.
Как гласит поверье, истинный Ковчег Завета хранится в Храме города Аксума, бывшей столицы Эфиопии, и никто из простых смертных не имеет права лицезреть его - величайшая святыня! При этом раз в году, на праздник Москал, в честь окончания сезона дождей, его точную копию выставляют на всеобщее обозрение. А оригинал... Оригинал никто еще не видел до сего дня...
Запрещено! И не из-за предрассудков. А под воздействием точных оперативных сводок Интерпола: и в других народах родятся свои Негусы.
Об этом, кстати, догадывался еще до возникновения международного сыска Абрам Ганнибал, когда оборудовал в Риге, в память о крестном отце, музейную комнату. В пожалованном ему Елизаветой Петровной здании на Домской площади. Камзол Петра вкупе со шляпой, ботфортами, шпагой и Моисеевой медалью Абрам Ганнибал не сдал на хранение в исторический музей: не доверял смотрителям чужого добра. А сохранил как память, в неприкосновенности, на той же стоячей вешалке, где Петр самолично разместил свою амуницию, дабы снова посетив Ригу, облачиться надлежащим образом: со шпагой на перевязи, с провозвестницей Мессии - Моисеевой медалью на богатырской груди. Не подозревал Великий человек, что следующего вояжа в янтарную столицу Балтики не предвидится и он расстается навсегда со своей рижской резиденцией.
Вступив во владение домом, Абрам Ганнибал выставил в кабинете Петра Первого, где не раз попивал с ним и Меншиковым пунш, одеяние императора баскетбольного роста - два метра четыре сантиметра. Там, по его задумке, все оно, до последней пуговицы и металлического крючка, будет под строгим присмотром наследников, людей обстоятельных и не робких - шведско-латышского да абиссинско-еврейского приплода, из поколения в поколение. А потомков у него, как свидетельствует Ю.Н.Тынянов, имелось превеликое множество.
Откроем книгу “Юрий Тынянов”, из серии “Жизнь замечательных людей”, выпуск 11, Москва, 1966. Читаем о крестнике Петра Первого:
“Потом попал он в Россию, во Францию, стал французский инженер и французский солдат, снова в Россию, женился на пленной шведке, капитанской дочке, пошли дети, и четырнадцать абиссинских и шведских сыновей - все стали русскими дворянами.”
“Итак, дело идет о России”, -.сказано в рукописи из архива Ю.Н.Тынянова.
“Турки в семнадцатом столетии все ближе и гуще надвигаются с моря на Абиссинию. Так уводят абиссинцев в плен, в рабство, продают их. Так род, человеческое семя, отрывается от Хабеша и идет по морю в Истамбул, во дворец султана. Так его крадут впоследствии в самом скором времени для русского посла”.
“И только темная кровь мешает ему позже вести свой род от какого-нибудь человека, выехавшего “из немец” при Ярославе или при Александре Невском. Темная кровь остается отметиной, тамгой. Первая жена абиссинца-арапа, гречанка, не хотела за него выходить замуж, “понеже не нашей породы”. И он в скором времени замучил ее. Темная кровь осталась в губах, в крыльях носа, в выпуклом лбе, похожим на абиссинские башни, и еще криком, шуткой, озорством, пляской, песней, гневом, веселостью, русскими крепостными харемами, свирепостью, убийством и любовью, которая похожа на полное человеческое безумство - так пошло русское ганнибальство, веселое, свирепое, двоеженцы, шутники, буяны, русские абиссинские дворяне”.
“Так быстро, легко и свободно они вошли в русское дворянство, что внук абиссинца и шведки бунтовал за права русского дворянства при Николае. А совершилось это потому, что и само русское дворянство было и шведским, и абиссинским, и немецким, и датским”.
“Дворянство задумало и построило национальное великорусское государство из великорусов, поляков, калмыков, шведов, итальянцев и датчан”.
“И хорошо задуманы самые фамилии дворянские. Итальянцы Villa-Nuova и Casa-Nuova - Вилановские, Казановичи, Казановские, немец Гундрет-Маркт - это Марков, доктор Пагенкампф - это Поганков, чешский граф Гаррах - это Горох, а потом и Горохов, и от имени его пошла Гороховая улица, на которой жили Обломов и Распутин, итальянец Баско - стал Басковым, и есть в Петербурге Басков переулок, итальянец Вавили - стал Вавилин, Чичери - Чичерин. И датчанин Кос-Фон Дален стал русским Козодавлевым”.
“Так шло издавна”.
“Русский Иван Четвертый, Грозный, говорил послам: “Я не русский, я из немец”. А немец Александр Третий, Романов, с бородой баварского кронпринца любил боярский стиль у художников”.
“Туманное же великорусское дворянское государство принимало и изгоняло людей, рылось в бумагах, шелестело грамотами, верными и поддельными, блюло местничество, шарило в постелях”.
“И толстогубое ганнибальство - двоеженцы с очень красной, очень густой кровью бежали и отсиживались всю жизнь от своих законных жен, как от несчастья и царского фельдъегеря”.
“Дважды род столкнулся с Пушкиными - этим, к концу восемнадцатого, к началу девятнадцатого износившимся, просквозившим в пух родом, легковесным, как перо”.
“История сужается в количестве лиц - она доходит до одного человека и вдруг расширяется во все пределы”.
“Разговор идет о человеке, который взял на себя счеты своего рода и счеты всех старых мастеров”.
“Он первый увидел и выговорил - завоевал Россию”.
“Он долго, мучительно вводил себя в семью средних дворян, но куда было спрятать выпуклый, как башня, лоб, и загнутый нос квартерона, дрожащие в гневе толстоватые губы, любовь к женщине, похожую на настоящее человеческое безумство, никогда не бывалые стихи и холод строителя больших чертежей?”
“Он “не нашей породы”, - сказали чиновники о нем те слова, какие сказала о черном прадеде неверная жена. “Он не нашей породы”, - сказал полуанглийский милорд Воронцов. И средней полосы помещики сказали потея: “Да, да, не нашей он породы, кромешник - он, Пушкин, сочинитель”.
“И дворцовые люди поблизости сказали о нем: “Он не нашей породы”. Женщина его предала “понеже не нашей породы”. Он умер от раны”.
Русские писатели порой бывают великими диагностами, недаром среди них немало врачей.
“Умер от раны”.
Душевные раны для человека “не нашей породы” куда пострашнее пули.
Такая смерть, не обязательно на просторах России, выцеливала и многих из нас, евреев, желающих Быть.
В русской истории, искусстве, литературе - это... Сподвижник и финансист Петра Первого голландский еврей Шапиро, на православный лад Шафиров, прапредок по материнской линии Льва Толстого. Художник Исаак Левитан, гений русского пейзажа. Поэт Борис Пастернак, первый из живущих в России лауреат Нобелевской премии по литературе.
Все они, независимо от величины и значения таланта, втайне считались не той “породы”, хотя крестились вполне сознательно, зная, что тем самым уходят из еврейства. Но сглаживания различий в полной мере не получилось, “темная кровь остается отметиной, тамгой”.
Темная кровь... Только она, по Юрию Тынянову, мешала Абраму Ганнибалу вести род от какого-нибудь человека, выехавшего “из немец” при Ярославе или при Александре Невском. А зачем, спрашивается? Чтобы стать по-настоящему своим? Веры недостаточно?
Многочисленным его соплеменникам, вывезенным в 1987 году из умирающей от голода Эфиопии в Израиль, не понадобилось переиначивать родословную, чтобы избавиться от “отметины, тамги.” Израиль спас их от голодной смерти. Израиль признал их за своих. По вере, не по цвету кожи. Попутно выяснилось: на их родине, в Эфиопии, проживают лишь две разновидности одного и того же по внешним признакам народа - христиане и иудеи. И тут-то внезапно понимаешь: вот почему Петру Первому понадобилось крестить Абрама Ганнибала. Мало того, что негр, еще и еврей, пожалуй. Не отмоешься и в четвертом поколении, соображал крестник, утирая кровь из носа, но благодарность за доброту и заботу можно выразить и при жизни. Напрямую, допустим, подарочной медалью, иносказательно - детьми. Петр был четырнадцатый ребенок в семье. Абрам Ганнибал помнил об этом, и в честь Петра родил четырнадцать сыновей. Сам он величался Петровичем, сыновья его - Абрамовичами, а все вместе они полагали себя детьми русского народа и должно служили России.
Знакомо?
В Израиле это многим знакомо, независимо оттого, из какой страны они выехали на родину предков. Здесь любят говорить насчет неприметного на первый взгляд родства, выискивать корни, ветви, плоды генеалогического дерева. И с мистическим, не иначе, восхищением перед нацией Авраама-Исаака-Иакова, вопросительно восклицать: “И он аид? И он аид? Кругом одни евреи? Куда податься бедному сабре-израильтянину?”
Людей основательных, уверенных в непоколебимой прочности собственного фундамента, этот вид национальной охоты евреев на законспирированных предков зачастую тяготит, ибо таит угрозу для их безупречной непричастности.
Однако... Куда деваться бедному еврею, когда вопрос напрашивается и есть возможность получить квалифицированный ответ?
Юрий Тынянов, как мне представляется, отделался полуответом, таящим не столько понимание происходящего в прошлом, сколько сквозное проникновение в настоящее и будущее, предопределенное контузией собственного сердца от восприятия слов “он не нашей породы”.
Однажды - а было это в 1987 году, вскоре после всколыхнувшей весь мир операции по переброске на “Геркулесах” эфиопских евреев в Израиль, когда антрацитной отливки косвенные потомки Абрама Ганнибала заполнили наши улицы и города, - у меня была редкая возможность задать напрямую вопрос о национальной принадлежности прапрадеда Пушкина. И не кому-нибудь, пусть и специалисту-историку, пусть и поэту, а Булату Окуджаве.
Возможность была, но возникла она в окружении внутреннего смущения и неловкости. Не подойдешь ведь в кафе к незнакомому человеку, сидящему за столиком, и не спросишь у него: “Извините, вы не Булат Окуджава?”
В Иерусалиме так не поступают. Тем более, в самом центре вечного города, на радиостанции “Голос Израиля”. Но как удержаться, если вдруг... в радийном буфете... как будто ты в ЦДЛ... видишь Булата Окуджаву... а рядом с ним Олю, очаровательную спутницу жизни... и всего в пяти шагах от себя...
Они сидели напротив входной двери, за третьим столиком. Я прошел мимо, направляясь к стойке, где Марк Зайчик, в ту пору один из авторов “Континента” и наш диктор, наполнял стакан напитком чайного цвета. Подойдя к нему, машинально оглянулся. Я испытавал ощущение, что прошел мимо знакомых людей и не поздоровался с ними. Это часто бывает с журналистами, привыкшими к широкому общению. Мое сознание было потревожено, выхватив мимолетом, словно из разворота журнала, характерные человеческие черты. Потревожено от неспособности соотнести вспыхнувший в памяти образ с израильской реальностью.
- По-моему, это Булат Окуджава? - полувопросительно сказал я.
- Булат Шалвович.
- Подойдем?
- У советских собственная гордость, - неопределенно и чуть ли не автоматически отозвался Марк. И непонятно было, что он в действительности имел в виду и к кому лично в обозримом пространстве питейного заведения относилось его определение - к нам, бывшим советским, либо к Булату Окуджаве, которого советским по бытующим представлениям восьмидесятых годов никак не назовешь, хотя на заре литературной юности он писал и про комиссаров в пыльных шлемах.
Марк отправился в четвертую студию. Читать вечернюю сводку новостей. А ко мне, пока я заказывал у бармена Ицика кофе с коньяком, подошла Эстер Карми, корреспондент-редактор радиообозрения “События - новости - люди”, бывшая ленинградка, накоротке знавшая, как выяснилось, Булата и Олю с незапамятных времен. Она их и пригласила на радио. Провела интервью. Завела в буфет. Угостила кофейком. И вот сейчас, когда настало время готовить материал к эфиру, решила передоверить гостей кому-либо из друзей. Не дай Бог, заскучают. И где? В самом центре мира. В Иерусалиме. Со мной, по ее представлениям, не соскучишься.
Только что я выпустил в свет первую книгу стихографии “Тон”. На ее страницах - в соединении моих стихов и рисунков - открывалось, как утверждали знатоки-очевидцы, новое поэтически-визуальное пространство. Политические рогатки и пограничные столбы не позволяли ему докатиться до Москвы. А тут, в Иерусалиме, как по велению Свыше, все понятия о расстояниях сместились, и вот она, Москва, в лучшем своем человеческом выражении, всего в пяти шагах.
Это ли преграда для человека, ходившего на танкерах и ледоколах по Балтике и северным морям - Карскому и Баренцову, исколесившему Сибирь и тундру?
Эстер представила меня. И - слово за слово - незаметно, даже не углядев ее ухода, мы разговорились. Я надписал книжку: “На добрую память Оле и Булату Окуджаве...” И отталкиваясь от некоторых стихов, продиктованных еще Сибирью, изложил гостю одну из легенд... О нем...
Мне было интересно услышать от самого героя повествования - правда ли все это?.. И знает ли он, какие устные рассказы всякого рода свидетелей и наблюдателей сопутствуют его жизни.
Начнем с предыстории. В 1973-ем к нам, в Киренск, где я работал в газете “Ленские зори”, приехали с лекциями об экологии два кандидата наук из Новосибирска. Они выступили сначала на заводе, потом, попивая пустую воду из графина, в редакции. К вечеру умаялись, и мы с женой вытащили их к себе в бревенчатую избу-пятистенок, уже, как говорится, не на чаепитие. А на пельмени с водочкой и водочку с пельменями. Первого из лекторов звали Дима, второго, помоложе, точно не помню, вроде Виктор, но фамилия на слуху - Воронков. Вот он и поведал, естественно, после принятия на грудь, когда взаимное доверие достигло предельной нормы, историю о Булате Окуджаве и новосибирском академгородке.
А история такова. Весь Новосибирск ходил ходуном. Приехал Булат Окуджава. Будет давать концерт. В академгородке. В приватном порядке. В кабинете... ректора, либо проректора, либо... Координаты “музыкального помещения” держались в тайне - “во избежание столпотворения несознательных студентов и аспирантов”. Но слухи носились самые разнообразные. И телефоны надрывались, выискивая полезных людей, способных провести в высокочтимую аудиторию. Где для “синего троллейбуса”, куда счастливцем садишься на ходу, протянуты провода высоковольтного напряжения.
И вот в назначенное время особо оповещенные люди собрались в кабинете ректора, либо проректора, либо... не важно... Главное, место встречи изменить нельзя, и сейчас откроется иллюзорный занавес, чтобы на глазах у всех, в миражах недоступного мира, словно древо познания добра и зла, произросла песня.
Булат Окуджава сидел у торца массивного стола, с кеглевидными ножками, на стуле цвета слоновой кости, сиденье кожаное, подушечкой, и задумчиво, настраиваясь на зал, перебирал струны лежащей на коленях гитары. Вспыхивали и гасли звуки ожидаемых всеми мелодий, вспыхивали и гасли скрипы пододвигаемых навстречу им стульев. Назревала тишина. Назревала, назревала и, перезрев, лопнула басовой струной. Правильнее сказать, басовым голосом высокопоставленного официального человека, владельца просторного кабинета, массивного стола и стула цвета слоновой кости...
Официальному человеку выпало открывать совершенно неофициальный, проводимый в полутайне, творческий вечер Булата Окуджавы. И он, лишь бы приподнять до уровня должной официальности чуждое вовсе официальности выступление народного любимца, доложил пришедшей внимать не ему, а Булату публике, что в этом должностном помещении сегодня встречаются, сами того не подозревая, два значимых московских гостя.
То, что Булат - гость значимый, догадывались все.
А вот кто второй - никто.
И тут грянуло. Оказывается, и стол, у которого сидит с гитарой Булат Окуджава, - тоже гость московский. И тоже - персона, если о рангах, дай Бог какая! В сороковом и ранее это бегемотообразное чудовище в комплекте со стулом принадлежало - вы и не догадаетесь кому! Берии!
И тогда Булат Окуджава поднялся в полный рост и, не сделав ни шагу, вошел в живую легенду новосибирского академгородка.
Он сказал:
- Может быть, за этим столом был подписан смертный приговор моему отцу. Концерт отменяется.
Слова, якобы сказанные им в действительности, были мною заново озвучены в радийном буфете. В ожидании ответа Булата Окуджавы. Что здесь правда, а что вымысел? - интересовало меня.
Булат, слушая историю о своем пребывании в академгородке, машинально листал мою книгу стихографии “Тон”, подолгу рассматривал рисунки - вчитываться в стихи за моим рассказом не представлялось возможным - и одобрительно кивал. Когда же я попросил его подтвердить историю, он смущенно ответил:
- Обо мне ходит много легенд.
- А эта?
- И эта ходит за мной.
- Что же было на самом деле?
- На самом деле, если... если речь идет о той самой или... или похожей истории... мы перешли в другой кабинет.
- Причина - стол Берии?
- Берии... или Ежова... Стол, по заверениям чиновника, мог оказаться и Генриха Ягоды... Время было такое...
- Значительные люди приступили к накоплению значительных именных коллекций, да? Раритеты им подавай?.. Фарфор от Фаберже?.
Авторучка Кейтеля, которой он подписывал акт безоговорочной капитуляции?.. Угольки от костра Жанны де Арк?..
- Хрустальные фужеры из дворцовых покоев. Мода такая...
- Согласен, Булат Шалвович. Однако мода - вещь проходящая. Другое, когда, скажем так, коллекционируешь имена. Да и не имена, а, положим, кровные связи с тем или иным историческим лицом. Я это называю - национальной еврейской охотой на соплеменников. Не секрет, встречаются среди нас и те, кто от корней своих предков нос воротят. До сих пор ходят “по просторам родины чудесной” загримированными... Под русских, украинцев, молдаван, латышей...
- Китайцев и разных прочих щведов, - подхватил мою игру Булат Окуджава.
- Я не о разоблачении псевдонимов.
- И я тоже.
- У нас сейчас в Израиле, Булат Шалвович, вовсю идет дискуссия - “кого считать евреем.” Мы скрытно вывезли... проще говоря, спасли от смерти, тысячи эфиопских евреев. И теперь, завершив это Богоугодное дело, ведем дискуссию, на уровне Кнессета, - считать ли их евреями. Что-то, мол, они перемудрили и в своих синагогах делают не по-ветхозаветному.
- И что решили?
- Решили - евреями считать. Это в Кнессете. А в народе... В нашем, русскоязычном народе, решили и Абрама Ганнибала, косвенного их предка, тоже считать евреем.
- А что ваши специалисты решили насчет Пушкина?
- У нас, Булат Шалвович, национальность передается по материнской линии. Александр Сергеевич был потомком Абрама Петровича. И не по отцовской, а именно по материнской линии. Выходит...
- Они были крещенные. И выходит, что ничего не выходит.
И мы засмеялись вместе. Засмеялись разом, довольные иронично-логичным исходом сымпровизированной игры, кстати, популярной в тот период среди выходцев из СССР. Засмеялись от какого-то радостного-шемящего осознания общности, от того, что знаем чуть больше, знаем чуть тоньше. А знание-то всего в двух-трех словах, как заповедь: человек, перешедший из иудаизма в другую веру, перестает быть евреем.
Следовательно, и Абрам Петрович Ганнибал и потомок его Александр Сергеевич Пушкин евреями по вере не являлись. Но поразительно, новыми репатриантами, “олим хадашим”, как говорят в Израиле, они могли стать. Ибо за ними оставалось право переселения на историческую родину. По Закону о возвращении, каждый, кто рожден от матери-еврейки, или располагает в роду бабушкой-дедушкой родственной Теодору Герцлю крови, имеет возможность окорениться на берегах Иордана. Будь то политики Владимир Ленин и Лев Троцкий, военачальники генералы Бескин и Крейзер, писатели Лев Толстой и Василий Гросман, поэты Борис Пастернак и Иосиф Бродский, художники Исаак Левитан и Борис Ефимов, брат Михаила Кольцова, кинорежиссеры Михаил Ромм и Михаил Шнейдеров, разведчики Лев Маневич и Леопольд Трепер, руководитель легендарной “Красной капеллы”, Герои Советского Союза летчик Яков Смушкевич и подводник Самуил Богорад, конструкторы самолетов и танков Семен Лавочкин и Жозеф Котин, историк Тарле, автор монографии о Наполеоне, и главный дирижер Большого театра Самосуд, композиторы Блантер и Шнитке, музыканты, виртуозы скрипки и рояля Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс, артисты Леонид Утесов и Марк Бернес, комики Тарапунька - (нет) и Штепсель - (да).
13. Пробуждение
- Убедился?
- Что? - я с трудом отдирал, промаргиваясь, голову от лежащей на поверхности стола руки.
- Повитал в облаках?
- Каких облаках, Маркович?
- В запредельных. В царствах-государствах закордонных. Не было?..
- Было.., - подтвердил я ошалело, не воспринимая, где она - реальность: там, под жгучим солнцем Иерусалима и Аддис-Абебы, или здесь, в глухомани дикой, не знакомой, пожалуй, даже с охотничьей тропой.
- Медаль...
- Что? Медаль? Башка раскалывается!..
- Медаль туману напустила... Говорил же тебе...
- Какой туман, старик?!
- Да-а, тебе на опохмелку и туман подавай под градусом...
Я различил то ли укоризну, то ли усмешку. Более ничего не различил в голосе Старателя. Только почувствовал, как он взял меня в охапку и бережно, чтобы не расплескать, перенес на лежак.
Почудилась странная музыка. Какая и откуда? Музыка небесных сфер? Инопланетян-пришельцев? Но вряд ли, вряд ли... Не научилась еще российская земля потусторонних Моцартов рождать, ей и со своими Шостаковичами тяжко.
Что-то холодное легло мне на лоб. “Медаль”, - подумалось до отключки. “Целительная”, - подумалось попутно. “Неужто горазда и похмелюгу отводить?” - подумалось, когда думать уже было нечем, мозг спал...
...Чуть приоткрыв веки, я подсматривал за Старателем. Неслышным шагом он скользнул от стола за печь. Из неприметного закутка раздался скрип открываемой лючины. Короткий пробег секунд, и прерывистый звук сменился постаныванием лестничных ступенек, ведущих, по всей вероятности, в подвал.
Хлопок деревянной крышки вскоре возвестил, что мой ночной собутыльник выбрался из подпола и ногой затворил лаз.
Старатель вновь предстал передо мной, но теперь уже с полутораметровым луком и лосиным колчаном. Примитивное оружие делало его еще больше похожим на пещерного человека, что, наверное, доставляло ему немалое удовольствие, а сторожких лесовиков-золотоискателей отпугивало от его обиталища.
- Дрыхнешь, паря, - бормотал он под нос, приученный к внутренним монологам одиночеством. - Ну и дрыхни. По пьяни - на пользу. А я тут... Важенка с олененком тут недалече маячит. За часок туда-сюда обернусь...
Дождавшись ухода бородача, я разодрал зенки, машинально сунул медаль в карман, поднялся с настила и поскакал, не бередя больную ногу, к печи. Заглянул за нее, на лючину с вделанным массивным кольцом. Мне, вовлеченному в какие-то несоразмерные с матерой тайгой тайны, почему-то мнилось: там, в подполе, таится нечто... Что? Иди знай - что! Нечто... На похмельном режиме голь и на выдумки не хитра, не то что на замысловатые формулировки.
Вспомнив о похмельном самовозгорании души и сердца, я вернулся к столу, где счастье держит в побратимах стопарь, и обнаружил его, желанный, не в пустом - о, радость! - состоянии. Хлебнул. Утерся. И посвежев, воспринял себя чуть ли не атаманом Ермаком. С таким неослабным восприятием собственной личности и шагнул к лючине - открывателем и покорителем новых земель.
Подвал представлял собой земляной коридор, метров пяти в длину. Слабый свет, струящийся из люка, вырисовывал на отдалении, казалось бы в тупике, два объемных короба. У самой лестницы на костыле, вбитом в стену, я обнаружил деревянный щит с изображением виденного мной на медали человека с распростертыми руками. Треугольник в ногах его был разрезан перпендикуляром. По обе стороны от угольной линии размещались две планетарные системы. В правой части наша, с обозначением “Солнце”. В левой... Неведомая.мне, морскому журналисту, но отнюдь не штурману дальнего плавания Александру Вовси. У стрелки, направленной к незнакомой звезде, стояло - “Сириус”. Под щитом на перевязи висел метательный нож с ртутной, как водится, подпиткой внутри. Я проверил ногтем лезвие: заточено великолепно, как для спецназа. И выцелив дальний короб, махом отправил в него стальную иглу. Инстинкт бывшего бойца из отряда особого назначения сработал без осечки. Нож и на палец не отклонился от умозрительной мишени, с легкостью прошил ее насквозь, и застрял по рукоятку в берестяном боку ящика.
Я заковылял за трофеями.
- Эй, паря! - послышалось сзади.
Я оглянулся. В проеме, над лестницей, возникло встревоженное лицо Старателя.
- Привет! - пойманный с поличным, я попытался скрыть смущение.
- Не гоношись сослепу.
- Я не гоношусь. У меня просто тяга к заточкам.
- Ты мне живым нужен.
- А что? Выгляжу по-другому?
- Пока еще нет. Но через минуту - точно! - будешь выглядеть по-другому.
- Угрожаешь?
- Дурень! Возвращайся!
Я не послушался хозяина зимовья. Самолюбие заело, да и водочный задор не отпускал, диктовал под нос: “видел я твои угрозы в гробу и белых тапочках!”
Не предполагал водочный задор, как это с ним зачастую и случается, что глаголит истину, подобно младенцу. Мне и впрямь предстояло бы увидеть угрозы Старателя в гробу и белых тапочках следом за предупреждением, соверши я по глупости несколько неосторожных движений. К ним, подлым, я и приступил, подойдя к коробам. Взявшись за рукоятку, я выдернул нож. И тут же почувствовал захват на горле. Дернулся в сторону, но увлекаемый тяжестью тела Старателя, стал опрокидываться на спину.
Спущенной тетивой просквозило воздух. В сантиметровом разрыве от виска мелькнула стрела. С чмоком, как в мокрую глину, вонзилась в деревянный щит, пройдя между ступенек - прямиком в лоб рисованному человеку.
- Самострел, дурень! - раздалось над ухом.
- Вижу! - нехотя ответил я, выбираясь из медвежих объятий..
- Больше дуться не будешь? Мир?
- Миру мир, и песню эту понесем, друзья, по свету, - во мне, видать, на нервной ноте, автоматически откликнулся этакий отголосок Московского фестиваля молодежи и студентов.
- Чего-чего? Что за позывные, “мастер”?
- А-а, - махнул я рукой, вспомнив - старпом ”Капеллы” исчез из Риги задолго до появления этого шлягера: - Песня такая, Александр Маркович.
- Ну, пой-пой... А то, пора и к причалу.
Старатель, ссутулясь в низком для него проходе, навис надо мной. На скулах его играли желваки, придавая лицу суровости.
Угроза - не угроза, но одно ясно: не по тому адресу я двинулся на открытие новых земель. Глядишь, мои открытия обернутся неприятностями.
Чтобы сгладить неловкость, выискал из запасников памяти известную каждому школьнику “палочку-выручалочку”.
- А нельзя ли нам для прогулок подальше выбрать закоулок? - я указал в глубь подземного хода.
- Нельзя, горе ты от ума луковое. Коридор ведет под сопку. А там... Запретная зона, паря.
- Атомная бомба?
- Покруче, “мастер”.
- Пещера с сокровищами Соломона Мудрого?
- Покруче.
- Что?
- Член в пальто! Но не “Член правительства”, с экрана.
- Не пудри мозги!
- Насмотришься там... голова кругом пойдет... А ты мне нужен живым и здоровым.
- Тебе?
- Именно, кавалер. Оттого и жизнь твою спас.
- Дважды, - вывел я моряка на курс к математической олимпиаде.
- Дважды-трижды - без разницы сколько. В остальные разы на медаль надейся. А сейчас... Сейчас - я... Может, с дальним прицелом спасаю. По-родственному, может быть. Глядишь, и зятьком мне окажешься. Как не спасти дурака?
- У тебя же дочка... в гетто...
- Это первая - да...
- И жена.
- И жена, первая, да... Иногда думаю: зря я медаль взял на ”Эвероланду”, не оставил дочке хотя бы цепочку. Может быть, и оберегла. Хотя... А тут... тут я окоренился, чтобы без подозрений по мою душу. И семьей по второму кругу обзавелся. Как без семьи, паря? И жена у меня тут, и дочка. Танька! В медицинский собирается. А пока в редакции у вас, в отделе писем.
- Татьяна Сергеевна? - удивился я, признав симпатичную мне голенастую девчушку с неснимаемым золотистым ожерельем.
- Она самая!
- Александр Маркович, - протянул я чуть ли не по складам. - Нескладуха у твоей дочки-то с отчеством.
- Это у тебя нескладуха с мозгами, паря! Там... на большой земле.. я значусь по паспорту. А здесь.. здесь - по твоим представлениям, “мастер”.
- Сергей?..
- Григорьевич... И вовсе не Вовси, - печально скаламбурил бывший старпом “Капеллы”.
- Догадываюсь.
- Правильно догадываешься.
- Танька-то, выходит, родилась по поддельным документам.
- Документы - верняк!.. Это батяня ее поддельный. Вот... инстинктивно, видать, в жмурки и защищается от жизни... отчеством, как щитом... Пацанка еще. А отчество - подавай... Инстинкт - во спасение, иначе не скажешь...
- В отделе писем, Александр Маркович, без инстинктов. Там по-другому не бывает. Пишут - куда? На редакцию. Кому? В отдел писем - Татьяне Сергеевне. “Уважаемая Татьяна Сергеевна! Предлагаю Вам познакомиться с моими новыми стихами и честно ответить мне: поэт я или кусок говна?”
- Так и пишут? - хохотнул Старатель.
- Насчет фекалий стесняются. Но в основном - так.
- И что? Как моя Танька? Отговаривает это говно плодить фекалии? Или?..
- Отговаривать нельзя. Советовать - пожалуйста. Вот и советует: читайте Пушкина, читайте Маяковского, набирайтесь поэтической грамоты. На худой конец, литературу будете любить, а не только себя в ней.
- Шалапутная девка! Небось, ухлестываешь.
- Мишаня Гольдин на нее глаз положил. Но... но ему вот-вот под призыв. И - “вы служите, мы вас подождем”.
- Подождет? Или... ухлестываешь?
- Подождет... Или...
- Лет до ста расти нам без старости, - вспомнив о дочкиных советах, Александр Маркович расчувствовался и как в холодную прорубь окунулся в школьную программу старшеклассников.
- До ста? По-Маяковскому? - усмехнулся я, догадываясь: азартный характер Старателя не позволяет таежнику уйти и от кухонной игры интеллигентов в цитаты.
- По себе. Не делай под Маяковского, делай под себя. А под себя... Тебе это... точняк!.. лет до ста и без старости.
- “Нам”, Александр Маркович! - поправил я бородача.
- Нам?.. Нет, своей судьбы не видишь, паря. Иначе интереса в жизни не будет. Тебе...
- И что?
- Член в пальто!
- Откуда?
- От верблюда!
- А без выражений на вольную тему?
- Без выражений... интересу в жизни не будет, мил-человек.
- Но я должен знать - что т а м?
- Доживешь - увидешь.
- А проще... Нельзя - что? где? когда? Почему я должен верить тебе... без этого?
- А ты мне и не верь. Верь Господу... И медали Господней тоже верь. Она мне на тебя навела подзорную трубу, когда ты еще водку пил с Красноштановым.
Мне стало немного жутковато. Тело окутало мелкой дрожью, противной по ощущению, приходящей всегда с запозданием, следом за пережитой опасностью.
- Из тебя, Александр Маркович, не “чиф”, а прямо-таки Синяя борода. Туда нельзя - там стрела каленая. Сюда запрещено - здесь Хозяйка медной горы. Вперед по жизни...
- Иди-иди, не пожалеешь.
- Заинтриговал...
- Ну! Наперед видеть все - жизнь без интересу. А вот Золотой жилой Сибири заинтригуешь кого угодно, - уклончиво ответил Старатель.
- Где? - напрягся я.
- Там, в хвосте.
Он хитро улыбнулся, показав глазами на уходящий в темноту подземный ход. Затем стер улыбку ладонью и сказал мне:
- Поднимайся. А я пойду налаживать самострел. Нечего туда соваться слабонервным.
Выдернув стрелу из-под лестничной ступеньки, Старатель валко направился к коробам и исчез в подземном ходе сразу за ними.
14. Схватка
Дальнее жужжание пропеллера наводило на мысль о поисковом вертолете. Пора бы ему появиться. А то в диспетчерской пьют, пьют, и заметят разве что пропажу последней, на опохмелку припасенной бутылки, но не друга своего, летуна. Его позабыть-позабудут с молодых-юных лет, если, конечно, не послали за добавкой.
Сидя на топчане, я прислонился к прорубу-окну: выискиваю звуки, высматриваю небо - авось, железная стрекоза вынырнет из-за облаков. Костерчик бы запалить. Сигнальный.
А почему бы и нет? - откликнулось во мне. - Жорка ведь не приписной корреспондент. Он в списках значится. Обязаны найти, отрапортовать командиру отряда. Так мол и так. Винтики и гаечки на месте, а человек у Бога за пазухой. Все чин-чинарем, как и предписано от сотворения мира.
С метательным ножом на перевязи - “пригодится для рубки сушняка!” - я вытащился во двор. Набрал ворох веток, притулил к ним бревно. И по-прежнему, не опираясь на покалеченную ногу, тыркнулся к сараю за щепой на растопку.
Из лабаза с провиантом раздалось предупредительное рычание еще настороженного, не злобного окраса.
Что за цирк? Топтыгин? Посреди дня? На трезвую голову?
Но не до цирка, когда ты вдали от галерки, не паришь над ареной.
Да, не до цирка, если из дверного проема, похрипывая и ворча, вываливает мохнатое чудище. Поблескивает черносливом глаз, вертит мордой, облизывая с когтистых лап тягучие струйки меда. Доискался, сластена, припасов Старателя, и теперь будет насмерть стоять, оберегая их, как свои, от пришельца.
Я, видите ли, пришелец...
Дикость какая!
И то!.. Медведь - хозяин, закон - тайга.
Закон был на стороне медведя. Потому что и сила была на его стороне.
Мне ничего не оставалась, как выхватить нож и... и в растерянности остановиться. Мимо меня, взвыв чуть ли не громче мохнатого воителя, промчался Старатель с кинжалом на отлете.
Они сошлись на луговине, у входа в лабаз.
Бурый облапил моряка, пытаясь повалить его на землю. Он ревел от натуги и злобы, омывал шкуру потоками крови. Клинок таежника искал его сердце, и не находил. Удар следовал за ударом, и на каждый выплеск стали накладывался болевой рык.
Я взмахнул ножом и, видя, как пятисантиметровые клыки хищно смыкаются на шее человека, у сонной артерии, метнул его в цель. Лезвие по самую рукоятку вошло в левый глаз зверя. Он обмяк и, оскребываясь о кишки, свалился на Старателя, придавил его к земле.
Волоком я оттащил таежника на центр луговины, подальше от подергивающегося в конвульсиях шатуна. Мало чего соображая, делал ему искусственное дыхание, мучил нажатием ладоней диафрагму живота, но выдавливал на губах лишь пузырьки крови.
Послышалось:
- Полный штиль...
- Потерпи, потерпи, - бормотал я, массируя ему грудную клетку.
Послышалось:
- Вечный прикол...
- Постой, постой!..
Глаза его открывались все шире и шире. По ним, разрастаясь в размерах, выкатывали вверх по дуге зрачки с моим - ну, конечно же! - моим изображением. Глаза уставились в запредельную точку неба, куда-то туда, откуда слышался голос - да-да, набирающий силу голос! - то ли Господень, то ли Моисеев, то ли...
Запредельная точка неба в застекленных, с капелькой слезы глазах Старателя приняла какие-то очертания.
О, господи! Да это же!..
Послышалось? Или это мне только показалось? Нет, скорее, послышалось! Пусть будет так! Послышалось:
- Вертолет...
Отступление восьмое
Я в иерусалимском кафе. В Синематеке. Здесь только что смотрел картину Гриши Илугдина ”Реприза”, документально-художественную ленту о намерении Сталина выслать в 1953 году, по завершении дела “убийц в белых халатах”, всех евреев Советского Союза в Сибирь и на Дальний Восток - на голодомор и повальную смерть от болезней и холода. Фильм того самого Гриши Илугдина, с кем в Риге, на старте э т о й истории, мы работали вместе в “Латвийском моряке”. Тогда фотокор, ныне он московский режиссер, с дипломом ВГИКа, один из представителей российского экранного Олимпа на Двадцать первом международном иерусалимском кинофестивале.
Напротив Старый город с опоясывающей его крепостной стеной. В эти ночные часы она подсвечена фонариками и создает сказочное впечатление надвременности. И действительно, ощущение невероятное: словно находишься на этаком переходном мостике, между Домом Петра Первого и Башней Давида, а под тобой, в глубоком рву, от Синематеки и до стены Старого города, в загадочных туманных образах, прошлое и будущее. Одно сходится с другим, в схватке вылепливает странные фигуры, разбрасывает искры и неясные звуки. Насмотришься, сразу за перо схватишься, чтобы описать, чтобы зарисовать, чтобы не забыть - и в нужный момент вспомнить...
Передо мной, рядом с чашечкой смолистого кофе, шариковая ручка и выцветший от старости журналистский блокнотик. В нем, помнится, не предполагая о скорой аварии, тридцать с лишним лет назад я лихо выгонял строкаж на борту Жоркиной “вертушки”. “Взгромоздился на вертолет, и забудь о земном своем, технологическом веке, выкормленном электричеством и дашавским газом: довезут, под свист и скрежет пропеллера, куда и за сто лет хождения по заповедным тропам не доберешься.
Лети и радуйся жизни. Строчи в блокнотике что заблагорассудится, не думай о цензоре и проходимости в печать”.
Вот эти строчки...
А вот и другие, поясняющие, почему из “Латвийского моряка”, из Риги, я укатил в “Ленские зори”, в Киренск.
А укатил я...
“Из-за того, что Яков Мотель, сам, хоть и редактор, но подопечный властям еще больше, чем собственной жене, не переводил меня из курьеров в литсотрудники, я крупно повздорил с ним, уволился из ”Латвийского моряка” и, покинув Ригу, поехал за романтикой, любовью и на заработки в Восточную Сибирь”.
До отъезда из Риги я числился в “Латвийском моряке” курьером, на ставке - 65 рублей в месяц.
После возвращения в редакцию я добился справедливости и стал получать 40 целковых. Однако сороковник свой я получал уже в качестве литсотрудника, принятого, правда, на полставки. И то! Если к минимальным материальным потребностям мы приплюсуем торжественное осознание победы в вечной войне с ветряными мельницами, то все станет на место.
Хотя... свято место...
Да-да, короткий срок спустя мне вновь пришлось увольняться из редакции. Осенью 1972 года моя сестра Сильва уехала в Израиль. Той же осенью, в ноябре, я был уволен из журналистики. Казалось бы, навсегда... Но так казалось партийным босам Советского Союза. Не знали - не догадывались эти инженеры еврейских душ: велика Россия, и отступать найдется куда.
Куда?
В Сибирь!
Откроем вновь выцветший от старости блокнотик.
“Там, в таежном городе Киренске, на острове, омываемом двумя реками, Леной и Киренгой, в районной газете “Ленские зори” я нашел себе любовь и пристанище. Здесь не интересовались моей национальностью и тем, имею ли я право числиться литературным сотрудником или не имею.
Сибиряков интересовало - умею ли я писать.
На мое счастье, я писать умел...”
"Наша улица” №266 (1) январь 2022
Охраняется законом РФ об авторском праве
адрес
в интернете
(официальный сайт)
http://kuvaldn-nu.narod.ru/