Ефим Гаммер “Поезд возвратного времени:
отправление на закате вчерашнего дня" роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок
"наша улица" ежемесячный литературный журнал
основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.
Ефим Гаммер
ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:
ОТПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКАТЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок
Ефим Гаммер
©Yefim Gammer, 2021
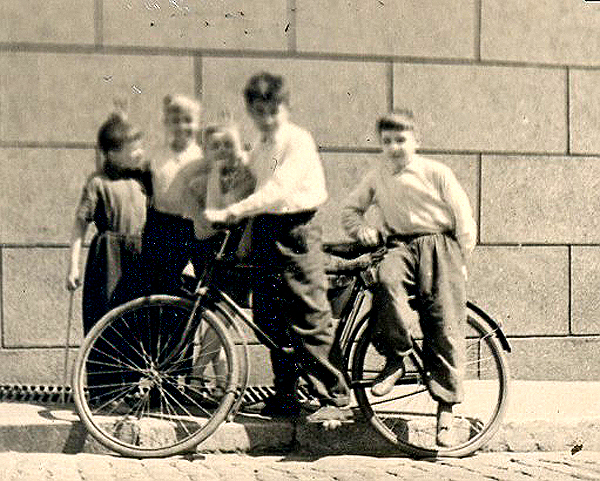
На снимке: Ребята с нашего двора: Рига, улица Аудею, 10. Середина 1950-х годов.

На снимке: Выпускники отделения журналистики Латвийского государственного университета середины 1970-х годов,
Ефим Гаммер третий справа - с букетом цветов.

На снимке: Победители республиканского первенства Латвийского общества «Даугава» по боксу, 1978 год.
Ефим Гаммер в белой майке и белых трусах, второй слева в первом ряду.
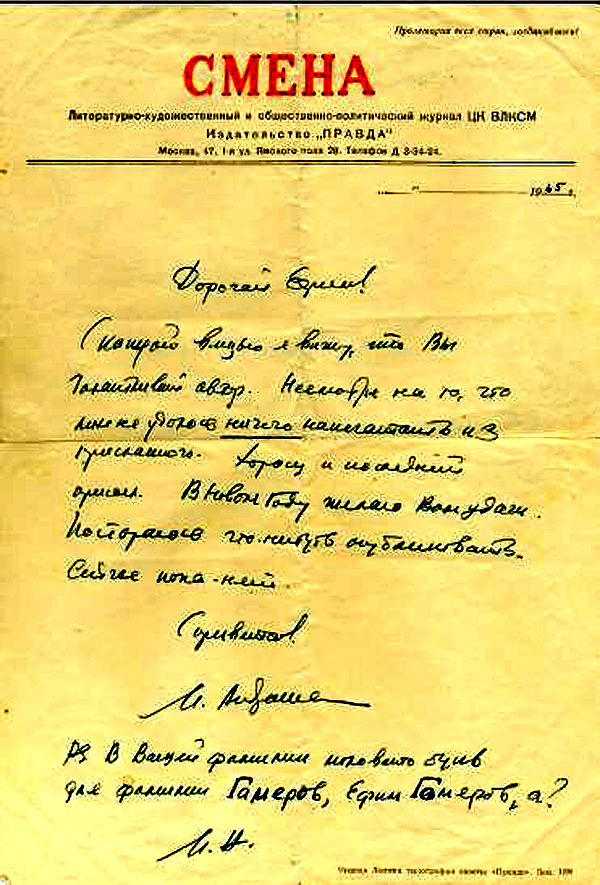
На снимке: Письмо из редакции журнала «Смена», 1965 год.
ОБ АВТОРЕ
Ефим Аронович Гаммер – член правления международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» – радио «Голос Израиля» - «РЭКА», член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международных Союзов писателей, журналистов, художников – обладатель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии, в середине девяностых годов, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной Америке. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 29 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них – Бунинская, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Левша» премия имени Н.С. Лескова – 2019, имени М.В. Исаковского «Связь поколений» – 2021, премия имени Марка Твена – 2022, «Бриллиантовый Дюк» – 2018 и 2019, международного конкурса «Поэтический атлас 2021», «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом (золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. 2015 год – дипломант Германского международного конкурса «Лучшая книга года». Диплома удостоена документальная повесть «В прицеле – свастика», выпущенная в свет рижским издательством «Лиесма» в далеком 1974 году. Выходит, не только рукописи не горят, но и некоторые старые книги. В 2020-году удостоен международной премии имени Саши Чёрного и назван лучшим автором 2019 года по разделу «Проза» в российском журнале «Сура», по разделу «Художественная публицистика» в российском журнале «Приокские зори», на 6-ом международном поэтическом конкурсе «Россия, перед именем твоим…» удостоен 1 места и стал Победителем международного конкурса драматургов, проведенном в Санкт-Петербурге театром «ВелесО». Также занял 1 место в номинации Поэзия – на Всероссийском конкурсе «Чудеса делаются своими руками» имени Нины Николаевны Грин, стал победителем – 1 место – на международном конкурсе «Хвала сонету». лауреатом международной поэтической премии «Мое солнцестояние», лауреатом международного конкурса поэзии имени Игоря Царева «Пятая стихия» в номинации «Мое Подмосковье» и дипломантом международного литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина. В 2014 году занял 1 место на литературном конкурсе имени Лаврентия Загоскина «Вслед за путеводной звездой» в номинации «Проза». Кроме того, является старейшим действующим боксером нашей планеты. Вернувшись на ринг в 1998 году в возрасте 53 лет, выступал в боксерских турнирах до 70, тридцать раз подряд стал чемпионом Иерусалима. Занесен во всемирную книгу «КТО ЕСТЬ КТО» – московское издание. Живет в Иерусалиме. Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Наша улица» «Новый журнал», «Встречи», «Слово\Word», «Новый свет», «Наша улица», «Млечный путь», «Вестник Европы», «Кольцо А», «Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», «Мастерская», «Заметки по еврейской истории», «Побережье», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель», «Время и место», «Стрелец», «Венский литератор», «LiteraruS – Литературное слово», «За-За», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Байкал», «Нижний Новгород», «Сура», «Приокские зори», «Литературная Америка», «Фабрика литературы», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Новый Енисейский литератор», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дерибасовская – Ришельевская», «Мория», «Новый континент», «Кругозор», «Времена», «Наша Канада», «Витражи», «Огни над Бией», «Бийский вестник», «Новая реальность», «Знание – сила: фантастика», «Под небом единым», «Меценат и мир», «Дальний Восток», «Отчий край», «Филигрань», «Московский базар», «Экумена», «Наше поколение», «Белый ворон», «Перископ», «Русское литературное эхо», «Алеф», «Лехаим», «Мишпоха», «Наша молодёжь», «Паровозъ», «День литературы», «Русская жизнь», «Флорида», «Менестрель», «Земляки», «Алия», «Студия», «Метаморфозы», «Поэтоград», «Симбирск», ,«Жемчужина», «Антураж», и т.д.
Ефим Гаммер
© Ефим Гаммер, 2021
ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:
ОТПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКАТЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
Роман ассоциаций
на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок
В роман включены стихи Ефима Гаммера из цикла «Постижение любви», удостоенные 1 места на Третьем международном конкурсе «Поэзия ангелов мира» 2021 года, проведённом в Красноярске — Россия.Если нужны ссылки на Дипломы...
Ссылка: https://365angels.com/photoalbums/412921#img-117856977
Стихотворение Ефима Гаммера читает Дмитрий Савин https://www.youtube.com/watch?v=o-2DR-xZ7CE
И также стихи из подборки «Постижение любви», удостоенные диплома 1 степени Международного литературного конкурса «Мгинские мосты» 2022 в Санкт-Петербурге.
Ссылка на Диплом https://cloud.mail.ru/attaches/16484662081821003423%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=yefim_gammer%40mail.ru&cvg=f
ПРИСТАНЦИОННЫЙ БАР-БУФЕТ
Как бы ни опоздать! Как бы ни опоздать!
Морзянка в мозгах. В душе тяжесть. От осознания: в ногах правды нет. И замедляется шаг. И неуверенность в мыслях. А что если? Действительно, почему бы и нет? Желанье одно, мыслей много. И? Ну да, не по себе. К тому же созвучие – последний поезд – отдает не стуком колёс, а похоронным звоном. Бр-р-р! Глядишь, и впрямь последний. Не лучше ли? Лучше! Лучше! Конечно, когда дышишь свежим воздухом, лучше заглянуть в пристанционный бар-бкфет, и пропустить по рюмочке. Дай бог, не последняя! Это уж точно, не последняя, если заведение ночное, круглосуточное.
– Тук-тук!
– Кто там?
– Сто грамм!
– Войдите.
– За нами не заржавеет.
Изнутри, под сорокаградусный налив, потекло к сердцу – нечто тёплое-претёплое, до спазматического перехвата горла. И пахнуло… нечто давнее, родом из 1950-х годов.
ЛЕСНОЙ РЕЙД
Мы готовились к войне. К войне настоящей. Правда, готовились к ней не по-настоящему. В уме. Там, в уме, делали «схроны» для оружия, намечали места для бункеров. Но хоть человек и силен умом, однако им гвоздь в стенку не вобьешь. Проще говоря, пока нет привязки на местности, нет и партизанской базы.
Самый подходящий район для нашей партизанской базы, решили мы, под Ропажи, в десяти километрах за городом. Во-первых, это не на Рижском взморье – не в Булдури, ни в Дзинтари, где полно отдыхающих. Во-вторых, это не на озере Югла, где кроме рыбы ничего интересного не выловишь. В-третьих, это там, где недавно заблудились и чуть ли не сутки напролет плутали наши соседи с улицы Яню. Значит, лес там, действительно, фартовый: свои потерялись, а уж враги, тем более, обратной дороги домой не отыщут.
Лес там и впрямь оказался что надо! Густой, сосновый, почти непроходимый, со взлобками и покатыми спусками. Иди себе, пой – никто не услышит, разве что ветерок донесет ошметки твоей песни до одинокого хутора. А попросят заткнуться, пожалуйста, чего перечить? Кругом ежевика, малина, затыкай ею рот и молчи в тряпочку, как партизан на допросе.
– Да, здесь самое место для базы. С голода не подохнем! – белобрысый Жорка Потапов лопался от удовольствия, вываливал на подбородок язык, тыкал пальцем в Леньку Гросмана, моего двоюродного брата, мол, посмотри, в какие цвета язык разукрасился от черники.
– Синий, а?
– Линялый.
– Сам ты линялый. А язык синий.
– Черника иначе не красит, – подсказал Эдик Сумасшедший, пританцовывая с корзиной, захваченной из дому «на всякий базарный случай». – А грибов-то, грибов!
– Грибы насушим, – авторитетно заметил я. – Кормежка – будь здоров! Хватит нам… На сколько, как думаешь, Эдик?
– Если экономно?
– Экономно, экономно…
– Если экономно, Финичка, то до конца войны, мабуть.
– На месяц?
– Когда не на два, на месяц!
– А если дольше?
– Дольше война не продержится. Тогда ты на второй год останешься в школе.
– Лады! Ты пока собирай грибы, а мы помозгуем насчет базы.
Впрочем, мозговать ни мне, ни Жорке с Ленькой не хотелось. И без того ясно: лучшего места для базы не придумаешь. Под боком малинник. Метрах в ста ручеек с «питьевой водой». До ближайшего поселения не меньше километра. Можно строить шалаш, устилать земляной пол еловыми лапами, под ними аккуратно припрятать до времен войны наш партизанский флаг, купленный вчера в школьном отделе универмага, и мало-помалу обживаться в новом штабе.
– Хватит жрать! Начали!
Начали, так начали. Легко, сноровисто.
Топориком – стук-стук! Елочка – хрясть!
Ножичком – чмок-чмок! Осыпаются веточки.
А Эдик Сумасшедший – в сопровождении дикой нашей музыки! – из-за дальних сосен:
– Боровик! Ого! И еще! Еще один, Финичка!
Хорошо Эдику Сумасшедшему. Насушит грибов – на всю войну нас всех обеспечит бесплатной кормежкой… А промахнется война, пройдет мимо наших грибов, он их домой заберет. На зимней бескормице и дома сгодятся. Вот ему и просторно, и радостно.
– Ого! Погляди, еще проклюнулся, господи!
А топорик – стук-стук! Елочка – хрясть!
А ножичек – чмок-чмок! Осыпаются веточки!
И вдруг – в раздолбай удовольствия от вольной жизни – меж деревьев заметался какой-то нечеловеческий крик.
«А-а-а!» – по-женски визгливое, по-детски болевое, чуть ли не до потери сознания неслось на нас неведомо откуда.
«А-а-а!» – от которого мурашки по телу, и хочется бежать, куда глаза глядят.
– Финичка! Война!
– Не городи чепухи! – сказал Ленька.
– Сам не городи! Пока мы тут валандались, война, почитай, началась. И они уже захватили кусок нашей неприступной территории.
– Почему – «захватили»? – спросил я.
– Сам сказывал, Финичка, в школе вас учили, как надо воевать по-сталински.
– Как?
– До победного конца, чтобы праздник был на нашей улице!
– Во-во, праздник!
– Да, но сначала улицу надо отдать врагу, а потом вернуться и набить ему морду.
– Пойдем! – сказал Жорка.
– Куда?
– Бить морду!
– Так он тебе и подставил морду! – забушевал доморощенный стратег Эдик Сумасшедший. – До этого дела еще не дошло. Мы ведь только сейчас отдали нашу неприступную территорию.
– Почем знаешь?
– А пытают уже – не слышишь?
– Кого пытают? Баб? – недоумевал Жорка.
– Баб тоже можно пытать, – доказательно делился познаниями Эдик Сумасшедший, – ежели они пошли в партизаны. Помните, как пытали Зою Космодемьянскую? Вот и эту Зою, мабуть, сейчас мучают: «Скажи, – говорят, – где Финичка партизанский край обустраивает?»
– А у нас и оружия нет, чтобы ее выручить!
– Во-во!
– Ладно тебе, Эдик! – расстроился я, но внешне вида не подал. – Эта Зоя с нами даже не знакома. Как она нас предаст?
– Захочет – предаст!
– А что? Он прав! Кто хочет, тот всегда предаст! – согласно кивнул Ленька.
Жорка тоже кивнул и стал оборачивать вокруг груди красный флаг, купленный вчера, перед рейдом в лес. Он знал: не вынести на себе знамя – это позор. А вынести – это подвиг, на вес ордена «Красная звезда» или медали «За отвагу».
– Ну, пойдем, – полувопросительно сказал он мне, весь такой из себя пунцовый – то ли от внутренней гордости, то ли от цвета флага.
– Пойдем, пойдем, а куда? – пробормотал я. – По всему видать, мы в окружении.
– Будем прорываться с боем.
– Голыми руками? – Ленька засомневался в удачном исходе операции.
– А топорик? А нож? Палка – тоже не игрушка.
Эдик взвесил на руках корзину, полную грибов. Прикинул, сойдет ли она за оружие пролетариата. Не булыжник, но все же подстать гире: трахнешь по кумполу, добавки не попросят.
– Погибать, так с музыкой.
– Мы еще станцуем танго на костях своих врагов, – машинально отозвался я первой, наверное, в своей жизни стихотворной строчкой.
– Финичка! – вздохнул Эдик Сумасшедший. – Если тебя убьют смертью храбрых, я скажу твоей маме Риве, как это было.
– А если, Эдик, убьют тебя…
– Нет-нет, Финичка! Меня не убьют! Я в плен сдамся живым и здоровым.
– Эдик, они и пленных убивают.
– Все равно, Финичка, ничего не говори моей маме. Она тебя выпорет по заднице. Отдай ей лучше эту корзину с грибами. И скажи: «Эдик пошел искать еще, чтобы хватило на всю войну».
– Понятно.
А раз «понятно», значит, приспело в рейд по тылам противника. Но куда идти, в какую сторону? Где незаметно проскользнуть мимо вражеских застав?
«А-а-а!» – резало воздух до дрожи противной в наших поджилках.
Вот это «а-а-а!» и стало нашим ориентиром. Там, где пытают, враги чувствуют себя, несомненно, в безопасности и вряд ли ждут нашего появления. Не такие ведь мы недоумки, чтобы соваться в пасть крокодилу – идти прямым ходом на пытку. А мы пойдем! Потому что мы хитрые. Потому что мы знаем из фильмов: стоит двинуться на тишину, обязательно попадешь в засаду.
Мы приняли единственно правильное решение, и гуськом, осторожно, без всякого трепа и хруста кустарника, двинулись едва различимой тропинкой на крик.
Поднялись на взлобок. Дальше – поляна. За поляной – можжевельник. В глубине можжевельника – крик.
«А-а-а!»
Залегли. Ленька легкими перебежками, на одном дыхании, обогнул поляну и нырнул в заросли.
Теперь жди сигнала. Жди и не рыпайся.
Но сигнала нет.
Минута раздумий.
Две минуты раздумий.
На третьей минуте раздумий солнечный зайчик запрыгал на наших лицах. Дождались! Это Ленька подает нам сигнал карманным зеркальцем.
Короткой перебежкой мы устремились за солнечным зайчиком. Минута, уже не раздумий, а действий, и мы в Ленькином прибежище – осыпавшемся от старости окопе времен первой мировой войны. Ленька подманил нас пальцем, приставил его к губам – «ш-ша» – и повел тем же пальцем в сторону. И мы увидели… Мы увидели, как увесистый дядек в полувоенной фуражке с кокардой и кителе железнодорожника – переодетый, должно быть, шпион! – валяет конопатую девку у рассыпанных из лукошка грибов. Впивается волчьими зубами ей в шею, чтобы не вырвалась, не убежала. И мучает, мучает ее, неведомую еще нам Зою какую-нибудь легендарную из будущих книг о новой войне, той войне, которую мы прозевали в лесу, под Ропажи.
Агент империализма нас не видел. И я махнул рукой Эдику Сумасшедшему – главному нашему бомбардиру, Богу войны, если вспомнить о тяжелой артиллерии и его физической силе. Эдик Сумасшедший понял приказ. Тишком выдвинулся на боевую позицию, самую-самую ударную – над головой, вышедшего из ума и осознания нашей советской действительности, зарубежного лазутчика. И ударил. Сверху вниз. Так, как обычно рубил дрова. Наотмашь. Правда, не туристическим топориком. А сучковатой палкой. Впрочем, и такой битой достать по башке – мало не покажется. Шпиону, действительно, мало не показалось. Он крючковатыми пальцами попытался схватить что-то в воздухе, но вскоре затих.
Спасенная деваха рванулась из-под него, как дикая рысь. Схватила лукошко, прикрыла ладонью разорванную на груди блузку. И сжигает нас немигающим пламенем, черным от расширенных зрачков, которые в размер безумных глаз, вот-вот нападет – растерзает.
– А-а-а! – дохнула горячим ветром и понеслась в можжевельник. – А-а-а! А-а-а…
Эдик Сумасшедший перевернул бесчувственного шпиона на спину, приложил ухо к запачканному кровью кителю.
– Даже в плен нечего брать!
Само собой, в таком виде, трахнутый по маковке мужик больше напоминал мертвяка, чем пленного: нос вытянулся, белесые волосы спеклись на лбу, капельки пота стекают по виску к щеке и, того гляди, утопят рыжего муравья в ямочке на подбородке.
– Так выглядит смерть в лицо, – сказал Жорка.
– А ты видел смерть? – спросил я.
– Кто ее видел в лицо, тот уже не живой.
– Выходит, он еще не умер, раз мы все живы.
Жорка согласно кивнул.
Я потрогал тело мыском ботинка. Нет, не деревенеет. Значит, жив курилка.
– Ничего, очухается! – бросил безапелляционно, будто уже побывал не на одной войне.
– Очухается! Очухается! – заторопился Эдик Сумасшедший. – Пойдем отсюда скорей, Финичка. Выйдем из леса, «скорую помощь» вызовем. Не наше дело лечить врагов. Пусть их лечит в тюрьме бесплатная советская медицина!
И мы поняли: прав Эдик, прав. Даром, что сумасшедший, кругом прав. Пусть таких врагов лечит советская медицина. Мы-то причем?
– Не тяните резину! – поторапливал Жорка.
– Давай сматывать удочки! – пританцовывал в нетерпении Ленька.
Эдик Сумасшедший тиснулся к рассыпанным там и тут грибам.
– Только грибы позвольте переложить в нашу корзину. Чего товару загодя пропадать? – нашелся и в столь пиковой ситуации..
– Переложил?
– Переложил!
– Тогда – айда!
И мы рванули следом за девахой, в можжевельник, затем вывернули на тропу, и вперед-вперед. К станции.
…Мы готовились к войне, чтобы видеть смерть в лицо не понарошку, а как старшие братья. На поле боя. Делали «схроны» для оружия. Намечали места для бункеров. Самый подходящий район для нашей партизанской базы, решили мы, где угодно, но только не под Ропажи.
Там нас милиция ищет. Так что лучше партизанские тропы прокладывать не в Ропажи, а, допустим, поближе к дому, в Старой Риге, чтобы в лабиринте проходных дворов сбить сыскарей со следа. Правильнее, конечно, перескочить сразу в юность, позволив внешности без всяких хирургических ухищрений и пластических операций измениться до неузнаваемости. Спрашивается, как это сделать? Проще простого: сесть на поезд возвратного времени и рвануть туда, где, не старея, живёт наша молодость. А где молодость – там и стихи.
И накатило…
ПОСТИЖЕНИЕ ЛЮБВИ
1
Под стук колёс
В оконной мгле
Мельком
Проскальзывают блики.
Лечу
По Матушке-Земле
Сквозь Балтику,
Из Петербурга в Ригу.
Я помню мир
Без виз и без границ,
Когда поездки
Были вроде спорта.
Считай, что ты
Из перелётных птиц,
Без паспорта,
Без визы и досмотра.
Лечу по рельсам,
Вспоминая вновь,
Что в давний мир
Меня позвала снова
Не жажда приключений,
А любовь –
Длиною в жизнь,
Пусть в ней всего в три слова:
«Люблю и жду»!
Ну что ещё в раздрай?
«Достать чернил и»,
Нет, не стану плакать.
Сто капель коньяка,
Горячий чай
И тульских пряников
Подслащенная мякоть.
Какая тьма!
Какой нас ждёт рассвет?
Но рельсы не свернут,
К былой ведя Отчизне,
Туда, где нам
Совсем немного лет,
И словно рельсы,
Параллельны жизни.
2
Немыслимо, но я живу былым,
Как телеграмма давними словами.
Спешу к тебе. Но как развеять дым?
Пробиться как? В неясной панораме
Я различаю губы и глаза.
Они твои, зато морщинки «наши».
О, не старей! Тебе стареть нельзя.
И без того себя уже ты старше.
Из круга жизни – общих зим и лет –
Ты в круг иной вошла – в моё былое.
Любовь! Я постигаю твой рассвет
Не на рассвете… Позднею порою.
Мой поздний час, вновь чувства прояви,
Чтоб – опалённый невозможной ранью –
С любимою я снова был на «Вы»,
Как в первый день, за век до расставанья.
3
Мою печаль, как пуховую шаль,
Накинула твоя печаль на плечи.
Мне жаль, мне жаль, тебя мне снова жаль.
Но чем помочь тебе? Помочь мне нечем.
Пройдут века и на земле людей
Не станет больше зла противоречий.
Мне жаль, мне жаль, но мир во тьме идей.
Так чем помочь тебе? Помочь мне нечем.
Дарю печаль, как пуховую шаль.
Но вряд ли эта шаль тебя излечит.
Мне жаль, мне жаль, тебя мне снова жаль.
Но чем помочь тебе? Помочь мне нечем.
4
Всё призрачно,
Что вижу я в былом.
Колеблемый
Незримыми ветрами,
Иду к тебе.
А жизнь, меняя рамы,
Идёт во мне –
Притворна!– напролом.
И лицедействует,
Как в драме,
Житейским
Политой дождём.
ПУТЬ К ТЕБЕ
Туч зыбистая толочь - предчувствиe дождя. Грязными лужами небо латает выемки асфальта. В росный тротуар впечатываются следы. Словно шахматное поле остается за мною. Я иду к тебе...
Я иду к тебе. А вровень с сердцем - неуверенность. Что сказать тебе? Как сказать?
Помню: в стесненье чуть скошенный взгляд, кивок головы - вас можно?
“Белый танец”.
Меня приглашают.
И мне представляется - весь зал следит за мной: отвечу я на приглашение, поднимусь ли со стула?
Я поднимаюсь, ощущая зыбкое недомогание в груди.
“Женское танго” - тихо и задумчиво. Грустная смутность щемит. Я - говорливый и хлесткий - в молчание замкнут. Молчание мне не по росту, тесно и жарко в нем.
- Звать... Как тебя звать?
- Люба.
- Значит, любовь?
- Любовь, и не иначе...
Мне фразой цветистой, но не расхожей, хочется щегольнуть. Она на языке, словно яблоко на терке.
- Луна... - вываливается отдельными крохами слов, стесняя меня.в мыслях и движениях.- Представь, мы на Луне. Вокруг... как их?.. селениты вокруг. А оркестр лунный вальс играет... А?
- Не вальс, а танго.
- Пусть танго, - соглашаюсь.
- Мы же... мы не мудреные селениты, а просто лунатики.
И мягкая, но в колючих искорках, улыбчивость затаилась в твоих зрачках. Их антрацитная глубина вобрала меня в зазеркальную тьму, как в колодец. И я потерялся. Как бы сам в себе потерялся. Или... уже в тебе?
Помню: скамейка, одна из семейства “наших”. Рядом, на гудроне, сдвоенность теней, высвеченных парковыми фонарями.
Теням легче намного. Без звука и привносного волнения - слились.
А нам?
Нам надо учиться жизни у собственных теней.
Пальцы ощупью овладевают таинством. Они, как тени, соприкосаются, они, как тени, вместе.
Здравствуй, чужая ладонь! Здравствуй!
Здравствуй и ты, чужая жизнь! Здравствуй!
А звезда - одна из многих - скатилась вниз, как слеза. Но слеза - радости или печали?
- Кто-то умер, - сказала ты. - Есть такое поверье: падение звезды предрекает смерть.
Закатилась чужая звезда. Но на каждую смерть - по закону природы - приходится чье-то рожденье.
- Пусть сегодня родились мы, - говорю я.
Помню: долго я ждал. Время, раскроенное на мгновения, приходилось вырывать из себя, как занозы, и складывать их в неподъемную пирамиду ожидания. Я ощущал себе рабом, который тащит на вершину этой пирамиды одну минуту за другой и никак не может остановиться. А тут еще - сбоку от нее - пристроился Сфинкс, загадочное создание разума и неволи. Пристроился и вопрошает: “Почему не пришла?”
Но ты пришла...
Правда, не в условленный час, с опозданием...
Мной помыкать? Пещерной неуступчивости обида хлестнула меня наотмашь.
- Явилась?! - слепо разорялся я, обгорая в жару щек, как от пощечины. - Больно нужно теперь! Можешь возвращаться домой!
А после мне стало известно: скорая была у тебя.
Укол, рецепты и краткое - “нужен покой”...
“Нужен покой”... Но я тебя ждал, и ты пришла... Поздно? Жизнь, полагала ты, не кончается в условленный час. Ни в тот, ни в другой, условленный...
В дневнике ты писала: “Не могу без него!.. Не могу!... Вчера... сегодня... А завтра?.. Завтра?! Где он, где? Не могу без него, не могу без него...”
И вот я иду к тебе.
Туч зыбистая толочь пасмуреет в предчувствие дождя. Грязными лужами небо латает выемки асфальта. В росный тротуар впечатываются следы. Словно шахматное поле остается за мной. И такое же поле впереди.
Я иду к тебе.
Две одинокие фигуры встретились посреди шахматного поля.
- Ты?
- Я.
- Ко мне?
- К тебе.
- А я к тебе.
Я поднял глаза и увидел свое отражение в глубине твоих зрачков. Я остался в тебе, увидел я. И еще я увидел - цветок. Ты держала цветок, аленькую гвоздику. Гвоздику - для меня?
- Сегодня день нашего рождения...
- Ах, да... День рождения...
- Три месяца...
- Да-да, ровно три месяца. Поди ж ты, срок!
- Совершенолетие...
- Совершенолетие в три месяца...
И рефреном отдается. Во мне и в ней.
“Я не могу без тебя!..”
“ Не могу без тебя!..”
“ Без тебя!..
“Я!..”
БОЛЬНИЧНЫЙ КОРИДОР
Откровенье… Разве что в больнице
Нарастает чувств невнятных вал.
Как туман, текут чужие лица,
Но одно я всё-таки узнал.
Боже мой! Какой гримёр потешный
Умирает в нашем времени сейчас.
Помню я, и помнит ветер вешний,
Как носил на рижских крыльях нас.
Не слились в том прошлом жизни наши,
Я в Израиль, за своей строкой.
И теперь лишь паспорт нам докажет,
Кто есть кто… Хотя теперь на кой?
А ведь мы друг друга не признали,
Мимо зеркала прошли, потупив взор.
Позади души раскрытой дали,
Впереди больничный коридор.
НЕДОСТАЧА БУКВ В СОВЕТСКОМ АЛФАВИТЕ
Вернемся в пору первой любви...
Памятный 1965-й год! Калининград. Военный городок. Боевые стрельбы. Изнурительные марш-броски.
Но мне двадцать лет! И все - нипочем! Спортрота - нечто вроде армейской элиты, слабаков и на ружейный выстрел не подпускает.
Который раз я уже чемпион по боксу!
И... который раз я также кандидат на публикацию в молодежном журнале с многомиллионным тиражом – «Смена».
В нем уже третий год подряд НЕ ПЕЧАТАЮТ цикл моих юмористических стихов, хотя обещают. Заведующий отделом юмора и сатиры Михаил Андраша из разу в раз - каждый календарный год - надеется дать мою подборку на полосу, а то и на разворот. Но все ему что-то мешает.
По наивности и молодости я не понимал - что. Еще не учился в университете, не работал журналистом в газете, не знал о требованиях цензуры и мало разбирался в вовпросах партийно-советской печати. А ведь впереди Первое всесоюзное совещание молодых юмористов и сатириков, куда я могу попасть после публикации в «Смене».
Но как оказаться на форуме, если Москва не печатает меня - даже в солдатской форме защитника Родины?
И вдруг письмо. Заветное. Из редакции «Смены». И когда? В декабре 1965-го... За полгода до…
Не тот ли это последний поезд, на который надо успеть, во что бы то ни стало?
Читаю.
Сначала типографский текст.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
С М Е Н А
Литературно-художественный и общественно-политический
журнал ЦК ВЛКСМ
Издательство «ПРАВДА»
Москва, 47, 1-я ул. Ямского поля 28. Телефон 3-34-24
Далее - от руки.
Дорогой Ефим!
С каждой вещью я вижу, что Вы талантливый автор. Несмотря на то, что мне не удалось ничего напечатать из присланного. Хорош и последний присыл. В Новом Году желаю Вам удачи. Постараюсь что-нибудь опубликовать.
Сейчас пока - нет.
С приветом (подпись) М. Андраша
P.S. В вашей фамилии маловато букв для фамилии Гамеров. Ефим Гомеров, а?
Пусть советский образец русского алфавита оказался маловат для Гаммера, я все же был благодарен Михаилу Андраше за моральную поддержку, за слова «Вы талантливый автор», за все то, что открылось мне в письме, как говорится, между строк - и в этом, и в предыдущих, 1963 - 1964 годов.
Я отказался от предложения изменить на русский лад свою фамилию. Не стал ни Гамеров, ни Гомеров.
И не беда, что так и не напечатался в «Смене», не попал на всесоюзное совещание молодых юмористов и сатириков, позволяющее гвардии рядовому Ефиму Гаммеру выйти в генералы, скорей всего, свадебные, от официальной литературы героической эпохи застоя.
В генералы не вышел. Но не пропал. И что удивительно, с того момента как я переехал в Израиль, фамилии моей не тесно в русском алфавите. Чувствую себя так, будто этот алфавит сшит точно по мне. И продолжаю к нему относиться с тем же пиететом, что и прежде.
Не добавляя ни единой буквы к своей фамилии, печатаюсь на трех континентах - в Израиле, России, США, Франции, Австралии. В журналах, альманахах, газетах «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Глагол», «Новый журнал», «Наша улица», «Слово\Word», «Русская мысль», «Литературная газета», «Вестник Европы», «Времена», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Сура», «Приокские зори», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Новый берег», «Дерибасовская – Ришельевская», «Дальний Восток», «Новый свет» и т.д.
Значит, дело не в фамилии и не в национальности, когда идеологические провозвестники создания на бумаге «единой общности людей» времен Брежнева сходят со сцены истории.
Под той же фамилией участвую в международных выставках профессиональных художников в Израиле, США, России, Канаде, Франции, Австралии, Германии, Болгарии, Латвии. Мои работы удостоены 13 лауреатских медалей высшей пробы в Ницце, Лионе, Каннах, Нью-Йорке, Ванкувере, Сиднее и публиковались на страницах различных журналов.
Под той же фамилией, известной также спортивному миру, в возрасте 53 лет вновь надел боевые боксерские перчатки и вышел на ринг. Тренировался до 75 лет, став старейшим действующим боксером в мире, год за годом завоевывал звание чемпионом Иерусалима, всего 30 раз.
Ссылка на публикацию в Иркутске на сайте «Мои года»
http://moi-goda.ru/slova-i-postupki/pisatel-chudozhnik-bokser
АВТОР ПОВЕСТЕЙ И РОМАНОВ О СИБИРИ ЕФИМ ГАММЕР УСТАНОВИЛ В 67 ЛЕТ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО БОКСУ
22 ноября прошло открытое первенство Иерусалима по боксу. Чемпионом Иерусалима 27-й раз подряд стал автор иркутского журнала «Сибирь» первой половины 70-х годов, писатель, журналист, художник Ефим Гаммер, старейший в мире боксер, ему 67 лет. В семидесятых годах он жил в Восточной Сибири и работал журналистом в газете «Ленские зори», город Киренск Иркутской области. В том районе, где в 1908 году прогремел взрыв Тунгусского метеорита. Об этом его повесть «Тунгуска», опубликованная в американском журнале «Слово-ворд».
Еще о Сибири им написаны романы «Один - на все четыре родины», удостоенный Бунинской премии в 2008 году, «Отражение», повесть «Укрылась женищина в снегу», опубликованная в журнале «Север»,
Ефим Гаммер автор 15 книг, член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников.
В 1998 году он вернулся на ринг после 18-летнего перерыва, чтобы вновь испытать себя в бою. И уже через месяц после первой тренировки, в ноябре 1998 года, стал чемпионом открытого первенства Иерусалима и обладателем кубка за лучшую технику. С тех пор прошло много лет. И каждый раз, дважды в году, Ефим Гаммер завоевывал чемпионский титул. По-прежнему он тренируется в Иерусалимском клубе бокса братьев Эли и Гриши Люксембург, известных спортсменов, а также и писателей, что, видимо, характерно для израильского бокса.
АБИТУРИЕНТ
В юношеские годы, вернувшись из армии в Ригу, я стал примеряться к Литературному институту. В Москву я посылал на творческий конкурс свои произведения. А в ответ получал анкету. Вызов на экзамены не получал, так как после ознакомления с моими данными Комиссия черт весть знает из каких специалистов определяла: “не годен!” Двойку я получал по “национальности” - был такой негласный предмет в эпоху Брежневского застоя.
Догадываясь, что Гаммеру не попасть в Литературный институт, но не желая чувствовать себя “битым” - боксеру это невпротык! - я стал посылать на творческий конкурс две подборки своих произведений. Одну под собственной фамилией. Вторую под псевдонимом, образованном из моего имени.
Г. Ефимов, в отличие от Е. Гаммера, успешно преодолевал творческое соревнование, как будто мои же стихи и рассказы писал лучше меня. Правильнее сказать, конкурс, проводимый специалистами от советской литературы, преодолевала его анкета. В ней он значился русским, только и всего. Вот и вся разница! Остальное - то же самое: год рождения, адрес, образование.
На экзамены в Москву я, конечно, не ездил, не желая раскрываться в этой, далеко не безопасной игре с радетелями моих талантов. Но несколько лет потерял: технический ВУЗ забросил, а поступление в Латвийский госуниверситет откладывал, надеясь как-то пробиться в Москву. Ведь написал уже кое-что стоящее, что потом, годы спустя, мог представить для публикации за рубежом Родины Ленина, Родины Сталина, Родины Хрущева-Брежнева и моей, разумеется.
Мог и иногда представлял. Ибо помнил себя, прежнего, не проходящего липовые творческие конкурсы советских кадровиков от литературы.
Помнил прежнего и понимал, насколько обязан ему - именем, честью, совестью.
Посему - не чурался печатного станка, и когда была возможность - публиковал свои ранние вещи.
Роман “Один на все четыре родины”, первый вариант написан в 1973 году, удостоен Бунинской премии в Москве в 2008-ом. Повесть-сказка “Принцесса Сахарного королевства” (1973 г.) напечатана в 1986 году в американско-французском литературном журнале “Стрелец”. Там же увидела свет и моя повесть “Уйти, чтобы вернуться”, написана в 1971 г., первое название “Комбо”. Из того же 1971 года шагнула во вторую половину девяностых повесть “Осужденный на жизнь скончался”, с которой, не подозревая о столь долгой лежке этой прозы в запасниках, познакомился читатель израильского русскоязычного еженедельника “Калейдоскоп”.
В 1975-ом мне стало известно, что Рижская киностудия готова направить меня на Высшие двухгодичные курсы сценаристов и кинорежиссеров. Рукопись моей повести “Комбо” - той, что впоследствии я напечатал в США - о джазовых музыкантах, журналистах и боксерах, о любви, вероломстве и мужестве, была признана лучшей на республиканском двуязычном конкурсе молодых кинематографистов. И, несмотря на то, что Латвия должна была бы, по идее, рекомендовать в Москву латыша, она, повесть эта, убедила команду жюри сделать ставку на меня.
Непременным условием для поступления было высшее образование. Я же учился в то время на пятом курсе Латвийского государственного университета, отделение журналистики. Однако, не прошло и трех месяцев, как я спуртом сдал все экзамены и зачеты за два последних курса, пятый и шестой.
Летом я уже защитил диплом и, готовенький для поступления на Высшие двухгодичные курсы, предстал перед начальницей отдела кадров Рижской киностудии, строгой, волевой женщиной, одетой в столь же строгий и волевой костюм. Она протянула мне для заполнения Московскую анкету и твердо, с заметным латышским акцентом, сказала:
- При заполнении анкеты вы можете сделать две ошибки.
“Какие ошибки? - подумалось мне. - Чай, грамотный”.
Странная поначалу фраза разъяснилась сама собой, когда я стал заполнять опросной лист.
Фамилия - Гаммер. (Для антисоветски настроенной Латвии фамилия подходящая, но с подвохом. Для русского уха вроде вся как у национального кадра, для латышского однако с основательным немецким корнем. Может, из бывших Курляндских баронов, правивших некогда в матушке-России, наподобие Бирона. Имя - Ефим. (Сойдет. К тому же намекает на то, что русский язык не наковырял по буковкам из партийных газет - родной язык, семейный, не позаимствованный из школы.)
Отчество... (Стоп! Вот где хранится ошибка моя. Первая, стало быть. Начерти Арнольдович - и все сойдет с рук. Но нет! Всю жизнь - в школе, литобъединении, на ринге и в армии, провел под отчеством Аронович. Не искушай меня, планида, не струшу и на сей раз.)
Отчество - Аронович.
Национальность... (Тут она и открылась: вторая и окончательная ошибка еврейского народа - подделываться под фирму, под нацию-гегемон. Пиши, не задумываясь, латыш, и покупай билет на самолет в Москву. Ну и ну! Метил на Высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров, а угодил опять на кадровую комиссию Литературного института имени Горького!)
Национальность - еврей.
В Москве мою анкету покрутили-повертели вместе с рукописью “Комбо” - повестью о джазовых музыкантах, боксерах, любви, вероломстве и мужестве. Покрутили-повертели, прихлопнули прикорнувшего на краю стола комарика и попросили прислать на Высшие курсы национальный кадр - латыша по паспорту, имени и фамилии, и пусть он не очень будет в ладах с русским, не обидят: научат и говорить, и писать, и петь “Шумел камыш, деревья гнулись”...
И то... Тогда, в 1977-ом, летом, вышел у меня разговор с широко-популярным в ту пору советским писателем Юрием Яковлевым. Он приехал в Ригу на Десятый Всесоюзный кинофестиваль, на котором блистала Лариса Шепитько, хотя ГРАН-ПРИ получила не она, а Не-Помню-Кто, снявший документальную ленту “Повесть о коммунисте” - о Л. И. Брежневе.
Вот такая непредсказуемая метаморфоза произошла на фестивале Художественного фильма. И провозгласить это на весь зал, причем без намека на исторический по сути конфуз, был вынужден не какой-нибудь партийный недоносок из Союза кинематографистов, а признанный мастер, маэстро экрана С. Ростоцкий, впоследствии лауреат Ленинской премии и Герой Социалистического труда. Времена и нравы! Но из песни слова не выкинешь, правда, гнусные это были песни, да и слова под стать им.
Безотносительно к “Повести о коммунисте” я брал интервью у Юрия Яковлева, члена жюри конкурса по детским фильмам. И в процессе нашего общения автор престижных советских журналов дал мне понять, что мы с ним одной крови, он такой же Яковлев, как я Ефимов. Однако, русский писатель, говорил он, должен все-таки носить русскую фамилию, иначе русские читатели будут воспринимать его произведения с некоторым недоверием, как чужеродные.
Может, он прав. А, может, не совсем, если вспомнить Фонвизина, Лермонтова, Фета, Гоголя, Герцена, Блока, Мандельштама, Бабеля, Грина (настоящая фамилия более русская, чем псевдоним, - Гриневский), Зощенко, Ильфа, Ахматову (Горенко), Бродского. Ну, и конечно Пастернака.
Помнится, какой ажиотаж поднялся осенью 1958 года после присуждения ему Нобелевской премии за книгу “Доктор Живаго”.
“Голоса”, прорываясь через заглушку, передавали:
- 23 октября постоянный секретарь Академии Андерс Эстерлинг объявил о присуждении Пастернаку премии по литературе - “за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа”.
А советское радио поило нас в отместку “искренним” возмущением людей, никогда не видевших в глаза книги Пастернака, но считающих ее издание – настоящим преступлением.
- Трудящиеся города Москвы, - говорил диктор, - с глубоким возмущением осуждают предательские действия Бориса Пастернака, направленные против советского народа, против мира и социализма. В многочисленных высказываниях рабочие, инженеры, деятели науки и культуры единодушно одобряют постановление Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, Президиума Правления Московского отделения Союза писателей РСФСР о лишении Бориса Пастернака звания советского писателя, исключении его из числа членов Союза писателей СССР. Огромное возмущение вызвал предательский поступок Бориса Пастернака в коллективе студентов и преподавателей Литературного института им. Горького. Свое требование немедленно изгнать Пастернака из среды советских писателей, сурово осудить его предательство в отношении Родины, своего народа они изложили в коллективном письме к Правлению Союза советских писателей. Письмо подписали все студенты. Только два студента – Панкратов и Харабаров, вхожие в ”салон” Пастернака, у которых в 1956–1957 годах были нездоровые настроения и ошибочные произведения, проявили колебания и не сразу подписали это письмо.
ВНОВЬ СОСЛАНЫ ГОДА НА КАТОРЖНУЮ ПАМЯТЬ
Бездомность, суета отринутого мира.
Повергнутая в чувство светотень.
И не до жиру. И опять мигрень
от ощущенья: будто в центре тира
стою – открыт для пули и ножа.
Разборчиво перо, забывчива душа.
Вновь сосланы года на каторжную память.
И трезвый разум, честью дорожа,
все полагает, что приспело править.
Но «полагает» – это не приказ.
Не выправить ни слова, жеста, шутки.
И прошлое живет и мчится на попутках,
чтобы догнать меня, ворваться в этот час.
I
Было так: пришла Фемида Убогая, сказала слово. А слово такое:
– Завтра явится Мессия. Да убойся его, Человек!
Назавтра пришла продразверстка в буденовском шлеме.
Сказала: «Зерно!». И сказала: «К стенке!»
Слово ее не разошлось с делом: отыскав зерно, поставили к стенке.
Фемиду Убогую искали, искали. Не разыскали.
Определили: ее слово к делу не пришьешь. Вот мужа ее, деда Фемида, пришить можно.
Дед Фемид родился с пулей в груди. С ней и вырос. Любил похлопывать себя по животу и приговаривать:
– Я пуленепробиваемый!
Его расстреляли до рассвета, когда деревня еще спала.
Дед упросил расстрельщиков:
– Бейте меня в одиночку, как лютого шатуна. На людях не надо. Не поверят вам люди. Я ведь пуленепробиваемый.
Пошли навстречу пожеланиям трудящихся – расстреляли в одиночку. Трудящиеся все равно не поверили. Дед-то был пуленепробиваемый.
II
Жил человек, искал дары природы.
А ему наган в ухо.
– Не ищи, чего нет. А ухо востри востро.
А он – глупец из породы ученых самобытков – рот раскрыл и...
Закон: рот раскрыл – получай! Вот и закатили ему в желудок девять грамм наивысшей учености.
А народ? Воды в рот. Ибо в душе – пламень.
«И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим».
III
У человека была душа. А жил человек в колхозе. Хотел душу вырастить да поглядеть: что это такое?
А ему говорят:
– Душа не волк, в лес не убежит. Расти поросят, будут свиньями.
С тем и живет человек. Впрочем, как весь его колхоз, который не волк – в лес не убежит.
IV
Жил был поп. Богу молился. А тому ли Богу молился, в Губчека никак не могли прознать. Очень уж их неверие заедало – и в Бога, и в человека.
Провели дознание. Установили: молился – это точно. Кому? Неизвестно.
Поискали статью. Нашли!
У попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. И попала в Губчека. Вместе с попом.
На допросе показала: мясо колхозное. Более того народное. Поп же опаивал прихожан опием для народа.
На суде определили меру высшей социальной защиты: собаке за вредительство – живодерня, попу за шпионаж в пользу потусторонних сил – Соловки.
V
Было: головокружение от успехов. И человек потерял голову.
Надо было зерно сажать, а сажали людей.
Надо было урожай снимать, а снимали головы.
Вынесли резолюцию: разобрать человека на партсобрании.
Разобрали. По сей день не соберут. Разбирали-то как? С умом! На запасные части. А запасные части – дефицит во все времена. Самим себе пригодится.
VI
Человеку дали армию. Сказали:
– Бей чужих, чтобы свои боялись.
Свои таки боялись.
Чужие нет. Накостыляли они человеку по шее. И любуются на него, не налюбуются.
– Откуда ты такой темный?
– От сохи.
– Как же ты от сохи в командармы вышел?
– А у нас завсегда так: кто был никем, тот станет всем. А кто был всем, тот, курице понятно, стал никем. Высшее достижение советской власти!
– О да, с такой властью вы далеко пойдете!
И, действительно, пошли – далеко. Сначала до Москвы, потом до Берлина. По пути миллионами жизней землицу засеяли, чтобы, вернувшись с победой в родные края, собрать рекордный урожай – генералиссимусову звезду.
VII
Человеку вручили палку. Сказали:
– Винтовка! Бей, коли, режь, убивай! В плен попадешь – враг! Из плена сбежишь – шпион. Значит, домой не воротишься!
Пошел человек на фронт. Попал в плен. Из плена сбежал. Домой не вернулся. Золото мыл на Колыме. В окружении винтовок, тех, которые не палки и, посему предназначались не для фронта. А для чего? Для охраны намытого золота? Или же его, человечьего молчания? Молчание ведь тоже золото, коль скоро оно выдается за знак согласия.
VIII
Свои не оборонили, не защитили.
Пришли чужие в незнакомой форме. Мордой в грязь потыкали.
Оскорбился человек:
– Мало от своих, так и от чужих сносить? Где это видано?
Вытащил из плетня кол и пошел гулять колом по вражьим головам.
Отдышался, видит – кругом мертвяки. А податься некуда, разве что в лес.
Подался в лес. Прибился к таким же.
Стали праздновать вольницу – чужих против шерсти причесывать.
Дождались своих.
Свои учинили дознание. Кому припомнили подневольный труд на чужих, кому лесную вольницу. Рассортировали: кого в лагерь, кого на фронт.
Потом для тех, кто с фронта вернулся, придумали анкету: находился ли на оккупированной территории? Затем, чтоб и сами не отмылись в случае чего, и дети их поменьше в институты шастали.
IX
– Есть грамотеи? – спросили чужие.
– Чай я грамотный, – ответил человек.
Назначили старостой. Мучился человек, пил горькую.
Пришли свои.
– Ага, попался, голубчик!
– Чист я перед вами, братцы, Христом Богом клянусь!
Не поверили. Наказали показательным процессом, чтоб другим было неповадно – на случай новой войны, священной, народной, отечественной.
Лес рубят – щепки летят.
X
Человек пахал на жене. Подписывался на заем. Выигрывал по облигациям Восстановления Народного Хозяйства. Когда – шиш с маслом. Когда – от осла уши.
Получал трудодни. Объедался беленой. Умывался слезами. А по праздникам пел:
– Я другой такой страны не знаю...
Головокружение от успехов уже прошло.
Догоним и перегоним еще не наступило.
С построением развитого социалистического общества повышалась активность классовых противников – как в городе, так и в деревне.
Недобитки добивались. Затаившиеся враги разоблачались. Председатели сменялись: то их принимали за недобитков и добивали, то их принимали за затаившихся врагов и разоблачали.
Страна залечивала свои раны. А человек пахал на жене. Проще было бы пахать на батьке, все-таки мужик! Да батька на Колыме! На дядьке тоже не попашешь. В Соловках. Братана в тягло не впряжешь – в Воркуте!
На них пашет советская власть.
Пашет и слушает про себя песни:
«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»
XI
Человек подался на завод. А ему сказали:
– За опоздание – три года.
Человек испугался. Давай вмазывать в начальственные руки заявление: «По собственному желанию...»
Ему говорят:
– Где твоя рабочая честь? В летуны навострился? Летун – главный враг на сегодняшний момент. Кодекс читал?
– А кто его читал? Мы только за него голосовали...
– Так вот, в кодексе летун нынче помещен между вредительством и шпионажем.
Человек – в мелкий озноб. И ну вкалывать. Перекрывать норму. К Доске Почета подкатываться. Деньгу заколачивать за свою тысячу процентов выработки.
А ему говорят:
– Рвачество!
– Так ведь я свои кровные... своими, вот этими руками загребаю – по честному, без всякого мухлежа.
Ему опять:
– Рвачество!
Попросил человек пересмотреть нормы: чтобы нормы были повыше, а зарплата пониже.
Человека уважили. Нормы пересмотрели. И ему, и всем прочим тоже – за компанию.
Теперь пятилетку он мог выполнить в три года. Но вот на зарплату свою протянуть все эти три года не мог.
Стал делать зажигалки, таскать их на базар.
Подловили.
Потолковали про рабочую честь.
– Не уберег, – сказали, – смолоду.
И вмазали срок. А чтобы человек не очень расстраивался, «воронка» ему подрулили с репродуктором.
«И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет».
XII
Человек написал стишок – «Мы редутов своих не сдали».
Понравилось. Попросили еще.
Человеку что? Написал еще – «Мы с победой вернулись домой».
Опять понравилось.
Человека приняли в Союз Писателей. И напутственно сказали:
– Продолжай в том же духе!
Расчувствовался человек и вывалил от души – «Очень трудно мы воевали в свой последний решительный бой».
Не понравилось. Придумали человеку псевдоним. И тут же разоблачили.
Псевдоним остался на газетной странице. А человека поперли от гонорарных ведомостей и из Союза Писателей.
В белую горячку.
А в минуту просветления втолковывали ему на уголке, скидываясь на бутылку:
– Новые песни придумает жизнь, не надо, товарищ, по песне тужить.
– Не надо, не надо, не надо, друзья, – отзывался он не своим голосом, потому что о нем продолжали писать в газетах: «поет с чужих, враждебных голосов».
XIII
Человек стихов не писал. Но братишку выручить вздумал. Считал: таланту загибаться негоже.
Взял в руки песенник, послюнявил его пальцем.
– Э-э, – сказал, – и мы так могем!
Две братановых строки оставил в неприкосновенности – понравились ведь когда-то. Две добавил из песенника – любы, должно быть, народу, коль их из одной песни перекидывают в другую.
И получилось: краше не придумаешь.
«Мы редутов своих не сдали.
Мы с победой вернулись домой.
Словно солнце товарищ Сталин
Освещал нам путь боевой!»
Хотели стихи положить на гимн, но – промахнулись – и положили на автора.
А на словах выдали:
– Не горюй! Пусть на гимн ты не вытянул, но за Сталинскую премию будь спок!
– Мне бы премию с братаном на пару. Мы мастаки творчески работать в соавторстве. Все эти строчки тоже настругали вдвоем. Он половину. И я половину.
– Братану премия не положена. У него псевдоним. А у тебя фамилия.
– Диалектика!
– Да, друг, диалектика! Мы диалектику учили не по Гегелю!
И человек стал учить диалектику не по Гегелю. А по Сталинской своей премии. И выучился! Основы соцреализма потом преподавал в Институте всемирной литературы имени Горького.
«Мастером» его величали, хотя предмета не знал. Впрочем, кто его знал, этот предмет? Однако, книги писал, и какие! Теперь их ни в одной букинистической лавке не найдешь: библиографическая редкость!
XIV
Сталина разоблачили. Ленина не тронули. «Мы на правильном пути». «Коммунизм строить молодым».
Папу, поэта – разоблачил. Маму, домохозяйку – не тронул. Зубрил моральный кодекс строителей коммунизма. На торжественной линейке вместе со всей красногалстучной пионерской гвардией захоронил в металлическом ящичке брошюрку до восьмидесятого года, когда, согласно захороненной брошюрке, построят коммунизм. Наступил восьмидесятый, выкопал брошюрку – самому припомнить, да и деткам прочесть о том, какой рай на земле отгрохали.
Читает. Строчки пляшут, в глазах двоится.
«Четырехчасовой рабочий день!»
«Бесплатный общественный транспорт!
Ни тебе жилищной проблемы!
Ни тебе нехватки продуктов на душу населения!
Ни тебе того! Ни тебе этого!
Так ничего-то и нет. Кроме очередей.
– Братцы-люди! Строили, строили! А ничего-то и нет, ничегошеньки! Что же это такое мы построили? Очереди?
Набежали люди. Зырк глазом туда, зырк сюда. Что дают? Видят: «Программу строителей коммунизма». Набросились на духовную пищу. Чтобы хоть чем-то червячка заморить.
Заморили. Смехом.
Правда, и людишек потом заморили. Уже не смехом. Лекарствами, от которых не до смеху... Ибо читая книгу, должен видеть фигу. А видишь нечто иное, не верь глазам своим!
XV
«Человек человеку – друг, товарищ и брат».
– Выучился! Следующий!
Человек выучился. И тут к нему, как к человеку, по-дружески, по-товарищески, по-братски:
– Дан приказ тебе на Запад!
– Что?
– С дружеским расположением, по-товарищески нелицеприятно, с братской миссией... ша-а-гом арш! В Чехословакию!
Дело было в Риге. Человек бросился к памятнику Свободы. Облился бензином – заполыхал факелом.
Набежали дружинники. Кинули человека в речку. Едва-едва потушили.
Все сделали оперативно, мастерски, как надо. По-дружески, по-товарищески, по-братски. О них потом в газете писали, под рубрикой: «Так поступают советские люди».
О человеке не писали. Он сам писал.
Объяснения. Под диктовку следователя в белом халате.
XVI
Другой человек, но тоже в Риге, заседал в жюри. Десятого Всесоюзного кинофестиваля.
Был ребенком – снимался у Эйзенштейна в фильме «Бежин луг». Был взрослым – смотрел фильм «Дорогой Никита Сергеевич». Вышел в люди – задался вопросом: «Доживем до понедельника»? Стал маститым, возглавил жюри.
Поднялся на трибуну, задумался. До понедельника недалеко, но поди доживи – оглашать результаты надо сейчас.
Огласил.
Гран-при лучшей ленте фестиваля – документальному фильму «Повесть о коммунисте», про родного и любимого Ильича – товарища Брежнева, еще не лауреата Ленинской премии по литературе, но к литературе очень приспособленного. Он еще свое напишет! Он еще получит билет члена Союза писателей СССР за самым первым номером и билет члена КПСС за самым вторым номером – самый первый номер навечно закреплен за вечно живым Лениным, тоже Ильичом, и тоже за номером первым в нашей партийной истории.
И товарищ Брежнев потом написал. Все что по тем временам требовалось для вступления в Союз писателей. Не подвел товарищей.
И товарищ председатель жюри Десятого Всесоюзного кинофестиваля, который проходил в Риге, не подвел товарищей, приехавших с ним вместе из Москвы. Огласил.
Лауреатские звания и государственные награды впоследствии они поделили полюбовно. Любовь правит миром, когда все полюбовно.
В психушку их за это не упекли.
XVII
Человек работал на конвейере. (Завод «Саркане Звайгзне» – опять-таки в Риге.) Собирал мопеды отличного качества – в период завершения пятилетки повышения благосостояния трудящихся.
С конвейера его вызвали в отдел кадров.
Человек думал о премиальных, а ему подсовывают на подпись совсем не платежную ведомость.
Человек сощурился близоруко: о неразглашении!!!
Чего? А того, что сын этого человека погиб в Афганистане.
Подписал человек бумагу.
Отпустили его назад к конвейеру – не разглашать. А сын-то ведь «смертью храбрых»...
Человек не разгласил.
Стало ему у конвейера дурно. И он – в обморок.
Конвейер остановился. Люди над несчастным склонились. И прочитали у него на губах: «Сын!!!»
За остановку конвейера человека лишили прогрессивки.
А за то, что в обморок упал, дали – до полного излечения – санаторий.
Вылечился или нет – неизвестно. Об этом только его второй сын знал. Но и его убрали в Афганистан - чтобы не разгласил.
XVIII
На углу стоят двое.
Подходит третий, точно такой же занюханный, но с университетским ромбиком.
– По рублику?
– Ты что? Сумасшедший?
– Какой сумасшедший, когда я кибернетик! – обиделся человек.
– А-а-а! Вон оно что! Вредное твое учение, реакционное. К ногтю его!
– Бедные, да неужто вы тут стоите с самого пить-десятого года?
– Ну и стоим! А что?
– Так я же, получается, из вашего светлого будущего!
– Разве?
– Да, братцы! Скинемся по рублику. За встречу!
– По рублику? Ты, правда, из будущего?
– Да!
– По руб-ли-ку? Значит, по-стро-и-ли?! Живем теперь, братцы! По рублику!
(Бедолаги, не догадывались о денежной реформе 1961 года, снизившей на один ноль стоимость поллитровки попутно с уменьшением зарплаты в десять раз.)
– Ну, так сообразим?
– А как же иначе, если теперь «по рублику».
Время – вперед!
ВДОЛЬ ПО РЕЛЬСАМ НА БАМ
Его щупающий взгляд скользнул по мне и тут же вильнул к купейному окну. Прошелся наискосок по привокзальному зданию, вымечая пивной ларек.
- Сообразим? - он вопрошающе уставился на меня.
Я смущенно пожал плечами, не зная, что сказать. Он одобряюще хлопнул ладонью по моему колену и грузно поднялся с дивана.
Через окно я видел его, тяжеловесного, но стремительного, прорубающего тоннель в людском потоке.
Я отвел рукав кителя, посмотрел на часы: до отхода поезда оставалось пять минут.
Он ворвался в купе, отфыркиваясь в усы подобно моржу, и выставил на столике батарею бутылок. Летнее солнце заплескало на жестяных крышечках, будто в лужицах талой воды.
- Значит, вдарим? - голос его прозвучал весомо, но доверительно. - Люблю пивко, в особень рижское. А ты какого мнения на этот счет – на счет бутыльброда?
Он сощурился, обозначив на пухлых, изрезанных поперечными морщинками, губах улыбку, достал из саквояжа сверток в вощеной бумаге. Затем, словно что-то вспомнив, значительно кашлянул и представился:
- Масолов, Пашка... Был боцманом на сухогрузе. Каком? Да разве упомнишь все пароходы, на каких ходил… Теперь отморячился. К берегу пришвартовался. Работаю в портофлоте. А ты? По кителю видать из железнодорожников будешь.
- Из них. Но не совсем. Из газеты «Железнодородник Прибалтики». Корреспондент. Командировка на БАМ. За репортажем в номер.
- Ага! Так я тебя, значит, правильно угадал?
- Почти правильно.
- В этом случае, - сделал ударение на «а», - коли твоя железная душа, железнодорожник, повенчана с вечным пером, то в самый раз ударить по пивку.
Я покосился на ребристую облицовку столика, примериваясь сбить крышку с запотелого горлышка бутылки.
- Будет, браток, портить общественную мебель!
Масолов взял бутылку в руки и умело, ухватив снизу хваткими пальцами за острые края крышки, сдернул ее.
- Получай! Как в аптеке!
Он присосался к горлышку и, сладострастно почмокивая, в несколько глотков опорожнил стеклянную посудину.
- Красота! - попутчик увесисто шлепнул себя по животу. - Вот брешут люди: пиво, мол, вредно. Ерундят! Толстеют, правда, от него – это да! В особень те, у кого комплекция к этому склонна. По мне видно. Но и тут ничего страшного. Моя разводная жена, что гонит на размен квартиры, по этому поводу говорила: «Любимого тела – чем больше, тем лучше». Золотые слова. Золотая жена. Сплошное золото, а вот ломбард не принимает.
Поезд, убаюкивая, ритмично постукивал на стыках рельс, уходил от вокзала в смутную, заштрихованную тучами сторону неба, к той точке, где оно соприкасалось с путями.
Вечером, когда я незаметно для себя самого задремал, радиоточка разразилась свирепым маршем. Я испуганно дернулся и, потирая ушибленный затылок, открыл глаза.
Напротив по-прежнему восседал Масолов, но уже в изрядном подпитии.
На столике, кроме пивных бутылок, красовались еще и виные.
- Из ресторана, - пояснил моряк и поднялся во весь рост, чтобы приглушить радио.
«А не ты ли включил его на полную громкость?» - подумалось мне.
- Не обессудь, браток, - вяло выговорил он, очевидно, догадываясь о моей мыслишке. - Не сподобился еще пить в одиночку. Компанейский я парень. Мне общество нужно… Нет, не подумай, и по трезвой лавочке, - помял в пальцах сигарету. - Без компании я, как судно без вымпела, - полыхнул спичкой, затянулся дымком. - Давай и портвейну уговорим.
Что-то в нем за прошедшее время, пока я кимарил, переменилось. Что? Голос. В нем уже не катались бойкие биллиардные шары. И лицо. Ранее вылизанное довольствием от массивного лба до пышных усов, ныне… Оно гляделось каким-то линялым, расплывчатым пятном с черными проталинами глаз.
- Эх, жизнь-жестянка! – начал Масолов, разливая крепчак по стаканам. – Лагом не измеришь, эхолотом не прощупаешь. Вот ты мне скажи, а… скажи, железная душа, железнодорожник… откуда берутся эти самые шутники? - досадливо махнул рукой. - Не знаешь, да? И я не знаю. А тут еще придумали по нашу душу праздник для дураков и их приспешников. Праздник смеха называется. И справлять его надо первого апреля, в день, так сказать, розыгрыша. Мне через этот розыгрыш душу вынули, железная ты душа, железнодорожник. А душа не зубной протез. Назад, на законное место – шалишь! – ее не поставишь.
- Чем же тебя достали? - спросил я, пряча зевок в ковшике ладони.
- Было это которое время назад. Мне только стукнуло тридцать, а смотрелся куда моложе, в особень, когда выряжен по форме, - его заинтересованный взгляд пытался нащупать мое уплывающее сознание. - Слушаешь?
Я кивнул, чуть не уронив подбородок. И подпер его рукой, чтобы не соскальзывал к столу.
- Слушаю…
Он приложился к стакану, опорожнил его, вытер рот рукавом пиджака.
- Приехал я, значит, к деду, в наш старинный городок. Приехал, значит, отпуск отгуливать. И надо же такому уродиться, девушку там встретил, точь-в- точь по душе. Машеньку. По соседству от деда жила, через два дома.
Разморенный от купейной духоты, я клюнул носом. Очнулся от голоса проводницы:
- Кто хочет чаю?
- Два стакана, - бросил попутчик и, будто не заметив, что я проспал первое действие его рассказа, продолжил свои воспоминания. - Письма от нее шли косяком. Зайдешь из плаванья в порт, так на тебе, пожалуйста, штук десять этих самых писем. Ну, думаю, дождусь опять отпуска и поеду жениться. Вот с этим предложением и сел за ответное письмо. А тут, на тебе – аврал. «Чиф» - по-вашему, сухопутному, железная ты душа, железнодорожник, это будет старпом, вот он меня и вызвал на палубу. То да сё… Пока управлялся с якорным ящиком, мой сосед по кубрику Волька-паршивец в письмецо вставил свою отсебятину, юморную, по его мнению. Причем, под подписью капитана, стервец! Мол, смыло меня за борт в открытом океане, на корм рыбам, так сказать. И никто не отыщет, как в песне, где могилка моя. Сойдя на берег, тут же отправил докуменцию авиапочтой с уведомлением – «вручить первого апреля». А я? Я… Ничего не знал. Думал, письмо мое в иллюминатор выдуло. Написал другое, бросил в почтовый ящик. И… Ну, да, ты, конечно, врубился: мое письмо запозднилось.
- Что же приключилось?
- Не догадываешься? Отравилась она. Машенька моя. Люминалом. Дед сказывал по телефону: самолично видел, на «скорой» ее увозили в больницу. И как раз на этот их праздник – первого апреля. Вот так! Не до смеху мне было. Напился. Вольке-паршивцу, как прознал про его шутовство, все зубы пересчитал. Но не полегчало. С тем и живу… А сейчас, а недавно… Опять дед звонил. Видел, говорит, ее на квартире, когда вызвали ради сантехнических работ. Живая опять. Приезжай, говорит, грехи замаливать, заодно и свадьбу сыграем. Как считаешь, железная ты душа, железнодорожник, примет она меня? Простит?
Я пожал плечами.
- Ты ведь ни в чем не виноват.
- Это и мне так видится. Но ее глазами, может, все видится по-другому.
- Съезди – проверь.
- Вот и еду…
Из коридора послышалось:
- Чай!
Масолов открыл дверь, пропустил проводницу.
- Девушка, как вас звать?
- Дадите полтинник, не ошибетесь.
- И пачку печенья, - сказал моряк, расплачиваясь. - Когда будем в Валке?
- Да через час двадцать минут – по расписанию.
Проводница отсчитала сдачу.
Масолов сказал:
- Оставьте себе, - и вдруг неподотчетно для себя самого добавил: - Я вот женихаться еду. Как считаете, примут меня?
- Я бы приняла, - рассмеялась проводница.
- Во-во! - Масолов посмотрел на меня, будто ожидал подтверждения сказанного.
И я согласно кивнул.
- Примет.
УСТЬ-КУТ – БАМ-БАМ
Усть-Кут, Усть-Кут – столица БАМа.
Сюда мы съехались гурьбой,
Чтобы судьбы земная драма
Нас повела в последний бой.
Но не буржуев бить, а гнуса,
И лес валить, и шпалы класть.
И не роптать от перегрузок,
Когда вовсю нас хвалит власть.
Но в час ночной, тишком, под рюмку
Внезапно кто-то вспоминал.
- Здесь дед таил в тридцатых думку,
Осилит, мол, лесоповал.
- И как? Осилил?
- Ну вас, бросьте!
- А ты?
- Я с думкою простой:
Мол, откопаю его кости
И тайно увезу домой.
ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК МИНУВШЕЙ ЭПОХИ
На смытой киноплёнке –
кадры дождевые,
но всё же различимы –
присмотрись:
Путевой обходчик
сошёл с колеи.
Теперь ищут его
в придорожных кустах.
А он в том временном
отрезке Земли,
где надежнее слов,
чем «режь!» и «коли!»
не найти,
коль гложет смертельный страх.
Справа – враг, слева – друг,
чуть подальше – стукач.
А душа в самоволку рвется –
домой.
Но домой – ни ногой!
И ни шагу назад.
Стой! Стой! Стой!
И не плачь!
А ведь он – путевой обходчик.
Ему
не стоять,
а ходить – не сходить с колеи.
Однако: «ни шагу назад!»
«Режь – коли, режь – коли!»
Никакого движенья,
а уходишь во тьму
где все кувырком:
морг – гром,
мод – дом,
гол – лог,
год – дог,
му – ум,
мук – кум.
ОБМАНУТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Мы, дети Победы, рожденные в 1945-46, вышли в мир невообразимых ожиданий. В мир, который создан для нас теми, кто выжил или погиб на войне. Теми, кто в душе своей и сердце нёс слова: «если не мы, так наши дети!»
С этим и росли: «если не отцы, так мы!»
Мы? И впрямь на нашу долю выпало всё то, что было недостижимым для родителей.
Перечислим? Перечислим, по возможности не смеясь.
Это не сложно, стоит вспомнить школьную программу, скажем, за пятый-шестой класс.
Итак…
Разоблачение культа личности.
(После разоблачения культа возвеличивали себя.)
ПОКЛОН
В Риге я довольно часто писал об эстраде, брал интервью у известных советских певцов. Однажды Эдуард Хиль рассказал такую историю.
Концертную бригаду, в которую само собой входил и он, пригласили на «Малую землю». А затем, после выступления на стадионе, организовали для них банкет.
Понятно, не за тем, чтобы пить и кушать, а по прямой своей обязанности – петь и плясать перед товарищем Брежневым и прочими, приближёнными к его телу хозяевами жизни, многие из которых были при лампасах и боевых орденах.
Как обычно, с очень большим успехом выступила народная артистка Клавдия Шульженко.
Закончив петь, она поклонилась откормленной компании партийных чиновников и высокопоставленных военных. При этом, не сгибая колен, достала кончиками пальцев до пола, будто позвоночник у нее резиновый.
Аплодисменты – оглушительные, это понятно. Но совсем непонятно, почему вдруг товарищу Брежневу вздумалось открыть рот. Впрочем, и не такие глупости он совершал, когда ему что-то вздумалось. Итак, он открыл рот и сказал присутствующим в его свите советским генералам и адмиралам:
– Учитесь кланяться у Клавдии Николаевны Шульженко.
Кому кланяться, он не сказал. Но это и без слов было понятно.
Построение коммунизма за двадцать лет к 1980 году.
(Вместо коммунизма ввергли нас в бесчисленные очереди за продуктами.)
СВИДЕТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ
Обратимся к дневникам российского писателя Игоря Дедкова. Вот что он пишет о жизни в родной Костроме накануне завершающей фазы построения коммунизма в Советском Союзе.
– 1976 год. Мяса в городе нет. Его продают по талонам, которые раздают в домоуправлениях.
– 1977 год. Канун Дня Октябрьской Социалистической революции. В магазинах нет туалетного мыла и конфет. Мяса, колбасы и сала нет давно – никто не удивляется.
– 1978 год. В городе нет масла. Из центра приходят бесконечные разнорядки, по которым сотрудников различных учреждений отправляют работать в совхозы и колхозы.
– 1980 год. Селедки нет, в окрестных поселках нет спичек, масла, крахмала и почти исчез кефир. Зато всегда есть водка.
Ссылка: https://lenta.ru/articles/2017/01/29/ussrgood/
Создание новой общности людей – советский народ.
(Развалили Союз, и породили этнические конфликты, вражду между народами.)
ПРЕССА КОММЕНТИРУЕТ
«Независимая газета», по данным Института демографии, 2004 год:
Только за период с 1988 по 1991 год на этнической почве в бывших советских республиках произошло более 150 конфликтов, в том числе около 20, повлекших человеческие жертвы.
Ссылка: https://ria.ru/20110117/322680431.html
В итоге…
Либо нас сознательно обманули. Либо мы неосознанно сами обманываться рады.
Представим на минутку, что у нас первый день апреля круглый год, и сразу на душе станет спокойно.
ПЕРВЫЙ АПРЕЛЬ – НИКОМУ НЕ ВЕРЬ
Изначально 1 апреля праздновалось в нашем подлунном мире как день весеннего равноденствия. Этот день был наполнен шутками, шалостями, прибаутками. А побудительной причиной для рождения розыгрышей послужили капризы природы, не скупящейся на довольно неожиданные перепады погоды: вместо теплого дождичка подчас одаривала обвальным снегопадом.
В начале восемнадцатого века День смеха, или День дураков, как его нередко называли в России, добрался до Москвы. В 1703 году в белокаменной глашатаи призывали на улицах всех желающих сходить «за бесплатно» на «неслыханное представление». Почитателей Мельпомены набилось в театр, как сельдей в бочку. Но когда распахнулся занавес, зрителям вместо языкастых артистов предстало бессловесное полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!»
Так в народе родилась предпосылка для сочинения знаменитого присловья «Бесплатных бутербродов не бывает». А у писателей новая тема для своих произведений.
Например, осенью 1825 года А. С. Пушкин писал в письме А.А. Дельвигу:
«Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
Ох, «первый, брат, апрель!» Каких только розыгрышей не случалось! Стоит лишний раз вспомнить о Программе строителей коммунизма, и…
А ведь ее закладывали в несгораемом ящичке в землю. На пионерском сборе. Чтобы потом, в 1980-ом откопать и прочитать вслух, уже детям своим, а то и внукам, какой рай на земле отгрохали.
Откопали? Некоторые из бывших пионеров, охочие до юмора, откопали и начали прямо на улице зачитывать вслух. И что? Арестовали за нарушение общественного порядка. 15 суток за хулиганские выходки. Так что… нарываешься на тюремную отсидку – читай вслух Программу строителей коммунизма. Хочешь понимания и признания среди вечных диссидентов бывшей Страны Советов – поливай словесными помоями Хрущева, забыв, как со всей пионерской дружиной ходил в 1964 году на фильм «Дорогой Никита Сергеевич». Или смеха ради ищи в букинистических магазинах книги товарища Брежнева, фильм о котором «Повесть о коммунисте» был удостоен Гран При 10 всесоюзного кинофестиваля, проходящего во второй половине семидесятых в Риге.
Казалось бы, давно, но стоит оглянуться, и всё предстает воочию, будто время сродни зеркалу: посмотришь, рублём не одарит, но живыми реалиями прошлого – вот они! – без всякого промедления.
Посмотрим?
А то нет!
Брежнев писал прозу, Андропов – стихи.
Брежнева приняли в Союз писателей СССР. И тут же провели обмен членских билетов, чтобы продемонстрировать всему миру по московскому телевидению: Брежнев – не хухры-мухры – он член №1. Именно за таким номером ему выдали новенький партийный…. Тьфу-тьфу! – оговорился. Писательский билет. А партийный – память не соврёт – за номером 2. Первый Ленину – посмертно. И тоже после обмена партийных документов.
Это надо же! Представьте себе, сколько стоил стране этот двойной обмен красных корочек? Сколько люди недополучили из-за этого самого необходимого? Вместо ублажения брежневского самомнения могли бы, допустим, закупить дополнительную порцию зерна у американсцев. А то ведь очереди за хлебом намного превышали очереди в книжные магазинами за нетленными произведениями Брежнева «Целина» и «Малая земля», выброшенными после его смерти в утиль.
Сегодня о нём даже по телеящику практически не вспоминают. А вот фразы его… нет-нет, не из литературных произведений, а из речей то и дело возрождаются из забыться. Под видом совершенно новых, будто рождённых вчера, озвучиваются сегодня российским диктором. Вот, например, включим телевизор 10 сентября 1921 года, и послушаем. Что? Да вот это самое. «В ближайшем будущем будут созданы все условия для повышения благосостояния российских граждан».
Замени «российских» на «советских» и отправляйся в прошлое.
А пункт назначения?
РИГА 1950-х
Рубль – это много. Две порции мороженого на палочке, да еще десять копеек сдачи. А при умелой игре в «чику», с везеньем за пазухой, можно блесткую эту копеечную монетку обернуть в новый рубль. А рубль… Что там говорить? Рубль и без адвокатов сам за себя ответ держит. Потому-то он на дороге и не валяется. Но под дудочку доброхотства вытанцовывает прямиком в карман.
О, как ловко импровизировали мы на этой таинственной дудочке! И не где-нибудь в закутке, а на самом завидном месте – на пустыре, прилаженном к нагретому, облизанному солнцем боку Главного Универмага с неприметными для стороннего глаза окошечками. Это были окошечки не простые, волшебные. Попросту их никогда не раскрывали, а обязательно со значением: чтобы масло «выбросить», муку или сахар. «Выбросить» все это добро внутри универмага никак нельзя было. Из-за очереди. Не вмещалась очередь в универмаг. Другое дело сбоку. Очередь в три обхвата облапит домину поперек туловища, подрагивает своим нервным, по-змеиному гибким хвостом и, пульсируя, сжимается, вдавливает выпирающие из стен камни обратно в стену, чтобы износу не было.
Мы за камни всегда были спокойны. Камни выдержат. А за людей иногда и побаивались.
И не то, чтобы побаивались из-за жалости к ним. Боже упаси! – какая может быть жалость, если денег даже на «чику» нет. Боялись совсем по другой причине. Люди – не камни. Люди происходят из другого материала. Повороти их спиной к стене, так у них нервы тут же справляют гулянку. Куда им до каменного спокойствия, когда очередь к цели своей – раскрытому окошечку – подбирается, а в одни руки дают только кило того-этого, не больше. Вот если бы рук было не две, а четыре, шесть или восемь, тогда и кило того-этого увеличится до двух или трех. Простая арифметика, но без сметки с нею не совладать. Руки сами собой не вырастут. Их покупать надо. За наличные. По твердой таксе – пару рук за рубль.
У нас есть руки, но нет лишнего рубля. У очереди есть рубли, но нет лишних рук. И мы поэтому знаем, что рубли перекочуют из очереди в наши руки, а наши руки выгребут из окошечка кило того-этого для очереди.
Мы знаем это и не спешим.. Мы играем в «чику», ставим копейки на кон, лупим биткой в медное их лицо, чтобы, отворотив лицо от ударов, переметнулись они на оборотную сторону. Копейкам наказание – нам выигрыш.
Играем мы в «чику». Азарт – под парами, а глазом косим на очередь – кто там первый на очередь к нам. И вот выдавливается старушенция, платочек в горошек, нос картошкой, платье до земли. Эта, ясное дело, начнет с гривенника и будет торговаться, как на базаре.
– Мальчики, – подкатывается к нам старушенция. – Подмогните.
– А чего тебе, бабка?
– Мне в очередь надо поставить вас, как своих внучат. Это мне зачтется при выдаче того-этого.
– Какая твоя цена, бабка?
– А какая цена? Не сочтите за труд, окажите услугу.
– Задаром – обращайся к боярам.
Жмется бабка. Деревенская она, не привыкла деньги транжирить.
– Я заплачу, – насилует себя старушенция.
– Сколько даешь?
– Рубь даю на круг, каждому много получится.
– Ха-ха, ищи кого подешевле.
И один из нас, самый сноровистый, присаживается на корточки и биткой по куче монет.
– Гляди, старая, – говорит нравоучительно. – Разом отоварился на двадцать копеек. В пять минут я тут рубль заколачиваю, а ты рубль на круг. Не пойдет у нас торговля.
Посрамлена старушенция, раздавлена. Куда ей с грошовым интересом против наших ставок. И топает потихонечку от нас назад, к очереди, и надежду свою худосочную вынашивает, как младенца. Ждет, что опомнимся мы, побежим за ней вслед, не дождется.
А от очереди к нам уже другая бабенция прется. При очках и шляпке, с капроном и лодочками. Эта не из деревенской будет сквалыги, из городской интеллигенции. Ее надо брать в оборот по-культурному, но с размахом. И вылавливаются из карманов браслетки и кольца, что родом с развалки. И оплетаются передние зубы золотой фольгой. И дымят самые дорогие папиросы в наших, червонного золота, зубах. Не подступись без серьезных намерений!
И бабенция, еще до своего первого слова, осознает все наше величие. И сговаривается с нами уважительно, как на базаре интеллигент с интеллигентом.
– Сколько запросите, мальчики?
Догадывается, что вступлений не требуется. И без вступлений понятно, зачем она к нам пожаловала.
– По рублю на брата, меньше не берем.
– Хорошо, – соглашается бабенция. – Пойдемте в очередь.
– В очередь пойдем, когда очередь будет у окошка, – разъясняем ей ситуацию.
– Что вы, мальчики. Нельзя так! Продавщица мигом уличит нас в обмане.
– Не уличит. Мы ей деньги за это платим.
– А очередь?
– Очередь и не пикнет. Не в ее интересах против своих кормильцев встревать.
– Как же это?
– А так, что не только тебя мы обслуживаем.
– Пусть будет по-вашему. Только очередь мою не пропустите.
– Иди, иди, тетка. Очередь твою не пропустим. Не волнуйся. У нас глаз положен на твою очередь.
И пошла себе бабенция с тихой радостью в груди от свидания с интеллигентными ребятишками. Пошла себе в легких лодочках. Куда до таких лодочек разбитым мужским ботинкам, что как гири сидели на ногах деревенской старушки, мешали стремительно добежать до очереди. Как поравнялись с ней лодочки, старушенция повернулась вновь к нам, боясь, как бы из-за долгих раздумий не оказаться в проигрыше.
– Мальчики, три рубля на круг.
Повысила цену за наши услуги, а сама мелко губами дрожит: как бы не прогадать. Прогадала, старушенция, прогадала. Прет к нам уже бугай, из тех, кому мешок того-этого нужен. Этот на старушенцию ноль внимания, фунт презрения. И мы тоже. Да что мы, если сами деньги особый взгляд имеют. Всмотритесь, какой взгляд у Ленина на сторублевке. И сравните этот его взгляд с тем, что на четверть менее гордый на двадцатипятке. То-то и оно! Если сами деньги по-разному смотрят, то как должны люди смотреть на деньги? С разбором. Так и мы, мы ведь тоже люди, даром что пацаны – без разбора не можем, иначе в трубу вылетим из детства. Кто же тогда за нас доживет до старости?
Подваливает, значит, к нам бугай. И говорит:
– Закупаю всю вашу камарилью.
– Почем платишь?
– Об уплате разговора нет. Каждому по два рубля в зубы и айда со мной.
– Прибавь по рублю. И мы берем на себя доставку товара по назначению.
– Идет, – кивает бугай.
Старушенция тут не выдерживает.
– Мальчики, поимейте совесть. Я первая на очереди была.
– Отвались, старушка, – лыбится бугай. – Мальчики быка уже завалить женилкою могут. А ты им – «мальчики».
– Мальчики, – травит свое старушенция. – Я по рублю.
– Во Чапай! – радуется жизни бугай. – Порублю! Да что, они, Деникины дети, чтоб им «порублю»? Ты им полста отвали, чтобы не на семечки, на бутылку хватило. С закусом.
– Мальчики, – опять за свое старушенция, и слезы у нее с глаз на землистое лицо выворачивают, как бусинки с нашей развалки.
– Ладно, бабка. Рубль не цена. Но что с тебя взять, кроме смерти. Иди в очередь, будешь у нас на заметке. Сделаем за бесплатно!
Вот и все!
Были мы мужички-топотуны.
Шли по жизни, твердо ставя ногу.
И ничего не боялись…
Кроме ябед в детстве, а стукачей в молодости.
ХОДОК ПО ТРУПАМ
Следует признаться, и впрямь, ни в чем не виноватые, боялись КГБ, правильнее сказать, его вездесущих агентов, растворенных среди людей, как соль в воде. Опасались подслушивающих устройств в редакционных кабинетах, пили водку и на досуге вспоминали, что такое вчера сказанули лишнего? Но лишней водки не бывает и лишних высказываний под водку, когда всё от чистого сердца, тоже. Лишними могли быть в компании только агенты ГБ. В известном смысле, даже не агенты. Кто их видел? А вот стукачи… Стукачей и опасались. При этом умом, не развитым поиском двурушников, не постигали самого простейшего тождества – стукач, он и есть агент. По природе своей и должности. Понять это можно не путём логических умозаключений, а спонтанно – интуитивно, так сказать. В тот момент, когда истина открывается ключом пророческого видения мира, тем ключом, что сам даётся в руки, сам проворачивается в скважине видений, и – смотри – не теряйся! – дверь открывается, и ты оказываешься на празднике осуществленных иллюзий, именуемом как-то странно, не совсем по-русски, значит, международном: День чуда своими руками.
Уникальный по своей сути праздник, отмечаемый 16 августа. Почему-то в прежней, советского образа жизни со знаком качества, его не удосужились учредить. Оттого-то, без наработанного навыка делать своими руками чудо, и проморгали мы многих стукачей, в особенности, что болезненным ознобом бьёт по сердцу, тех, с кем сиживали в кафе, болтали по-дружески и читали друг другу стихи. Читали стихи, не догадываясь: они как лакмусовая бумажка, и то, что ты закамуфлировал в рифмованных строчках, проступает в диссидентской окраске прямо тут за столом, под звон чокающихся рюмок.
Не было тогда наработки на распознавание «свой» – «чужой», не давалось волшебное проникновение в мир грядущих событий. Не то, что сегодня, когда праздник по мне: здесь впору, там не жмет. Сомневаетесь? Что ж… Давайте тогда и подкрепим это заявление некоторыми событиями из жизни. Итак…
ЧУДЕСА В МОЕЙ ЖИЗНИ – ДВА ИЗ 12
Чудо третье. Сверхъестественного порядка. В начале восьмидесятых, выпуская в свет юмористическую книгу «Круговерть комаров над стоячим болотом», я дал на 314 странице свои предсказания на начинающееся десятилетие. Пришли они ко мне во время болезни, когда я сел за пишущую машинку. Чтобы дописать страницу. При температуре сорок. И дописал… Но совсем не то, что задумал, а вылившееся спонтанно. Все мои предсказания, одно за другим, сбывались год за годом.
Вот что я написал тогда и поместил в книгу.
– Смерть Л. Брежнева состоится 10. 11. 1982 г. (Сбылось в срок.)
– Преемником Л. Брежнева изберут Ю. Андропова. (Сбылось в срок.)
– Начало смертного мора в рядах Политбюро. (Сбылось в срок)
– 1983-й – уход с политарены М. Бегина. (Сбылось в срок и, мало того, с моей формулировкой, дурацкой по отношению к М. Бегину в те времена, когда он был главой правительства Израиля и должен был им оставаться и в 1983-ем, без всяких перевыборов.)
– Освобождение А. Щаранского, И. Нудель и др. (Сбылось в срок.)
– Третья мировая война не начнется. Не начнется она и в 1984 году. (Сбылось и это. Казалось бы, сегодня смешно читать это «сбылось» по отношению к Третьей мировой войне в 1984 году. Но посмотрите газеты той поры, и на каждой странице увидите прогнозы всемирно известных предсказателей и астрологов. И все они о том, что в 1984-ом Земле нашей грозит ядерная катастрофа. Масло в огонь подливало и то, что на иврите год 1984-й складывался в буковки страшенного слова «Ташмад» – «Уничтожение», что оптимизма не прибавляло. Будем полагать для душевного равновесия, что мое успокоительное «Третья мировая не начнется» позволило некоторым невротикам не покончить жизнь самоубийством посредством пистолета или веревки, не выброситься в окно с небоскреба, и не промотать все сбережения в казино.
– Ждать ее надо в 1989-ом! - сказано на 314 странице моей книги. (Сбылось в срок. Ждали ее, то есть всамделешную Третью мировую. Ждали, и еще как в 1989-ом! Ждали и тряслись со страху. Ждали и надеялись: а вдруг пронесет. Вспомните ситуацию: рухнула Берлинская стена, в Румынии вспыхнуло восстание, расстреляли Чаушеску и его жену, соцлагерь клокочет, Советский Союз трещит по швам. Так что... ждали. И дождались путча, развала соцлагеря, уничтожения СССР. Результат почище, чем дала бы Третья мировая. Но это уже – другая история.)
Чудо девятое, мистическое. 11 сентября 2001 года в дворике, примыкающем к моей квартире, я фотографировал свои картины, предназначенные для выставки в Иерусалимском Доме художника. Засняв всю пленку, я сдал ее на проявку в фотоателье «Клик», что на улице Яффо. И отправился в редакцию «Голоса Израиля», в студию радиостанции «РЭКА», чтобы произвести запланированные записи.
В 17.00 по израильскому времени наши звукооператоры позвали меня в комнату отдыха к телевизору, чтобы я увидел Нечто Невероятное. И я увидел, как американские «Боинги», с террористами за штурвалом, атаковали в Нью-Йорке международный торговый центр, как над высотным зданием взметнулось облако дыма и пыли, принявшее внезапно очертания какого-то неземного лица.
Через час, несмотря на ЧП вселенского масштаба, я пошел в фотоателье «Клик» за снимками своих картин. И то, что я увидел на одном из отпечатков, поразило меня. Каким-то образом негатив кадра, где был запечатлен нарисованный мной в кровавых тонах город, оказался засвеченным. Причем так, что создавалось впечатление парящего над этим городом дымчатого лица, почти такого же, какое появилось над высотным зданием в Нью-Йорке. Выходит, 11 сентября утром, при фотосъемке, солнечный луч каким-то неведомым образом просквозил мой «Зенит» и эскизно предвосхитил произошедшую через несколько часов трагедию. И если бы я проявил пленку раньше, то... То ничего ровным счетом не уяснил бы в ситуации и не спас человечество. Я не догадался бы о том, ЧТО и, главное, ГДЕ должно рвануть. Когда же рвануло... тогда... Тогда я и опубликовал эту картину на обложке еженедельника «Калейдоскоп»... Тогда… В 2001 году.
ИЕРУСАЛИМ
Напрячься помыслом и нервом,
клюкой нащупать зорный след,
и прозревать, как в жизни первой,
когда сквозь чудо видел свет,
когда у звездного полога
не безъязык был и не слеп,
когда младенчески – пророком
вклинялся в помыслы судеб.
Уйти? Остаться? Возвратиться
под наказанье и указ?
И осознать себя в темнице
разнопохожих лиц и глаз?
Но знать срока земли и неба…
И не сказать. Кому и где?
Без осознанья чуда немо
реченье для земных людей.
Гордиев узел, путь запутан,
доколи чудо – не резон.
Рефреном звучит в мозгу: «доколи чудо – не резон».
Резон или не резон?
Но если подумать, что Иерусалим настроен именно на чудо, то по-иному и не представляется. Подумаем-проникнемся и увидим, что другим предстоит увидеть в апреле 2065 года, когда мне исполнится 120 лет. А увидим мы Небесный Иерусалим, перламутрового светоизлучения куб о двенадцати дверей, с каждой стороны по три, и каждая мраморного цвета. Он парит над землей, зависает всего в пяти метрах от глаз. Двери сейчас распахнутся, и…
Но на этом остановим видения, чтобы не сказать чего лищнего.
Вот-вот – «не сказать чего лишнего». Казалось бы, сколько лет пролетело с рижских застольев, когда легкомысленный выброс слов оборачивается на утро тяжёлым похмельем размышлений: не «сболтнули ли чего?», а – поди ты! – прикипело, не оторвать. И то… Лишнее слово, порой стоит целого высказывания, и приводит к таким поворотам судьбы, что месячное пребывание в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, покажется чепухой. Разве нет? Ну? Ответа не дождаться. Оно и понятно, вы ведь не знаете, что к чему. Что ж, кому по калачу, а кому и по прянику под компот. Время, назад! И поехали! Куда? Курс на Ригу, адрес: улица Дзирнаву, редакция газеты «Советская молодёжь», где однажды Джордано Бруно сказал: «Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю его!» Нет, не Джордано? И не там? Значит, я. И, наверное, не во весь голос. Скорей всего, в уме. Но там, непременно. Нужно только сориентироваться со временем и обстоятельствами. Положим, направиться, не в 1600-й, а куда поближе.
Итак, определимся по календарю...
Год 1974-й. 1 августа. Сезон созревания черники, грибов и надежд, что юношей питают. Если они от манной каши уже потянулись на западный манер не к рюмке водки с килечкой на закус, а к бокалу вина, приправленному лирическими стихами. Ну, и главное, самый значимый день для нашей семьи. День свадьбы моих родителей Арона и Ривы Гаммер.
Вроде бы, как давно. Но если оглянуться, да на миг перенестись в прошлое, совсем близко. А что? Попробуем! И…
В незапамятной молодости, одухотворяющей 1937 год, когда юная Рива Вербовская закончила Одесский медицинский техникум и обзавелась дипломом, к ней на прием в поликлинику пришел за уколом знаменитый баянист Арон Гаммер, играющий на концертах и танцах в парке Шевченко. Укол был настолько удачным, что Арон Гаммер пригласил Риву Вербовскую в ЗАГС. И что? Она таки согласилась. А почему бы и впрямь не расписаться, если любовь, как поет Утесов, «нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждут».
Свадьба пела и плясала, как это принято в Одессе. В том же доме на улице Средней, где когда-то мама Ривы Вербовской выходила замуж за ее папу – Ида Гинзбург за Аврума Вербовского, героя и инвалида Первой мировой войны. На той свадьбе 1917 года, проходящей под аккомпанемент залпов «Авроры», гулял король Молдаванки Мишка Япончик.
На свадьбе Ривы, теперь уже Гаммер, гуляли другие звезды Одесского неба, больше имеющие отношение к искусству, чем к налетам. На столе было не так, чтобы очень. Но и не так, чтобы ничего. И картошечка, и селедочка, и выпить, и добавить под «горько». И… И надежды, что юношей питают. Одна из таких питательных надежд квартировала в Москве, где на студии грамзаписи предполагали издать пластинку фрейлехсов Арона Гаммера. Вторая, подобно бессонной кошке, гуляла по оцинкованной крыше Первого Артиллерийского училища. Почему? Эта загадка легко разрешима, если прикинуть, как Арон Гаммер, представляясь гостям со стороны невесты, говорил:
– Я закончил Первое Одесское артиллерийское училище.
– О! – отвечали гости на доступном разумению языке восхищения и искали на отвороте пиджака Арона петлицы, а в них лейтенантские кубари. Искали чего-то хорошего, как это принято в Одессе, и не находили, что тоже присуще городу Соньки - Золотой ручки.
Они не догадывались, что Арон – известный для них в качестве музыканта-исполнителя и сочинителя доступных понимания на Средней улице стихов, был заодно и потомственным жестянщиком – сыном великого мастера кровельных работ Фроима Гаммера. Вот в качестве кровельщика и закончил он военное училище, то бишь, в переводе с одесского на русский, закончил крыть крышу военного училища, за что и получил, помимо премиальных, и похвальную грамоту от армейского комиссара 1 ранга Яна Борисовича Гамарника (настоящее имя-отчество – Яков Пудикович). Но об этом, о грамоте от самого Гамарника, 1 августа 1937 папа уже вслух не говорил, хотя в душе продолжал ею гордиться. Помнил: лишнее сболтнёшь, за словом потом не угонишься, а один из гостей – кто? всегда тайна! – понесёт его по стукачевской привычке на кумачовым языке в органы. Какие? Понятно, внутренние, скажем, пищеварения, где человеческий материал переваривается в фикальную массу, и уже не выходит наружу, если не подоспеет реабилитация. Гамарнику она подоспела 7 октября 1955 года, а застрелился он за пару месяцев до папиной свадьбы 31 мая 1937-го, опасаясь неминуемого ареста по так называемому «делу Тухачевского». И вот в ситуации, когда глаз воистину алмаз, и способен просветить насквозь идеологическое нутро не только рядового квартиросъемщика, но даже и домоуправа, приходится снимать со стены Почётную грамоту с командармом-самоубийцем, и прятать её куда подальше, на самое дно комода. Улика! Спрашивается, чего ради прятать? Отвечаю: ради спасения жизни и нарождения деток. Им ведь не грамоту подавай, а жизнь. Так ведь? Так!
А жизнь есть жизнь, и ею управляться детям уже самостоятельно. Я и управлялся своей жизнью, пока она не управилась со мной, причём, очень жестоким образом, в этот радостный для нашей семьи день – 1 августа. Уточним, 1974 года.
Только что мы, Я, Пётр Вайль и Вадим Сметанников, выпустили свежий номер «Студента в спецовке» – газеты студенческих строительных отрядов, впервые издающейся в Латвии, и помышляли о малом сабантуйчике. Но не здесь, понятно, не в стенах газеты «Советская молодежь», где размещалась и наша редакция. Но мне позвонили с первого этажа и попросили спуститься с третьего, с небес, так сказать, на землю, чтобы потолковать о моих стихах, опубликованных в последнем выпуске «Студента в спецовке».
Отпустив коллег занимать места в кафе, я отправился «толковать на свежую голову». И после этого о сабантуйчике больше не помышлял. Два, до этого вполне уважаемых мной журналиста, начали с пристрастием допытываться у меня, что я скрытно пронёс между строчек в своих стихах. Чем-то опальным сквозит, но чем конкретно вроде бы закодировано, хотя за кордоном прочтут и скорей всего дадут расшифровку на свой лад и вкус. Не лучше ли? Да-да, не лучше ли мне самому?
Вот-вот! Такие они, нынешние Шерлоки Холмсы, им не расследование подавай, а признание. При этом строили разговор столь умело, что получалось, не они меня намерены уличить в антисоветской направленности, а я – сам себя! – в ходе опровержения их намёков. Каким образом? Путем разъяснения затуманенного и явно политического подтекста собственных стихов. Каких? А вот этих, из последнего номера «Студента в спецовке».
Жены и невесты
сотканы из слез.
Плачут в голос вместе,
плачут врозь.
– Жены и невесты!
Мертвым не помочь.
Мертвые не весть где,
а над ними ночь.
– Жены и невесты,
горестные жесты,
в смерти мертвых чья вина?
– А… а…
– Жены и невесты,
скорбные оркестры,
бились мертвые за что?
– О… о…
– Жены и невесты,
дуют злые весты.
Кто навлек их на страну?
– У… у…
Флаги спускают по умершим.
Мертвые сраму не имут.
Мёртвые кости не стынут.
Мёртвое сердце не греет.
Мёртвая совесть молчит.
Тогда, при живучем эхе ввода советских войск в Чехословакию и интенсивном отъезде евреев в Израиль, стукаческая активность выдавливала на поверхность многих затаившихся в безликой гуще толпы тайных агентов охранки. И мы, молодые поэты и журналисты той поры, были особенно настороже, понимая: находимся под прицелом, наше слово с каждым днём воспринимается всё более подозрительно, и разного рода доброхоты охотятся за ним, чтобы лишний раз выслужиться перед начальством в погонах.
Тем более у нас, а у меня особенно, стоял перед глазами – как бы это сказать? – живой пример списывания человека в смерть. И только лишь по стукаческой наводке малоприметного ходока по трупам.
Вскоре после разгрома Еврейского антифашистского комитета в Органы пришел донос на Файвиша Львовича Аронеса, одного из ведущих актеров Биробиджанского еврейского театра, драматурга и режиссера, в прошлом также отважного солдата Первой мировой войны, награжденного за храбрость Георгиевской медалью.
– По наводке доносчика, – вспоминает его сын Майрум, муж моей сестры Сильвы, – у папы в квартире нашли письмо от Михоэлса, с которым его связывала творческая дружба. А при виде томика стихов Переца Маркиша, капитан КГБ (тогда МГБ) язвительно произнес:
– Перчика читаешь?
По окончанию обыска маме сказали:
– Можете собирать вещи в дорогу для арестованного.
Мама трясущимися от страха руками начала складывать рубашку, носки и прочее.
Я был полностью подавлен.
Мир счастливого детства рухнул.
Папу увели, мы смотрели в окно на удаляющуюся фигуру папы в окружении гебистов. Лишь в 1956 году его освободили, и то потому, что после разоблачения культа личности Сталина начали выпускать из тюрем ГУЛАГа политзаключенных. Но 5 октября 1949 года врезалось в мою память. Ведь украденное и раздавленное детство никогда не вернешь.
СИБИРЛАГ
В канун пятой годовщины со дня трагической гибели Соломона Михоэлса в газете “Правда” была напечатана статья про “убийц в белых халатах”. Номер газеты с этой статьей дошел окольными путями до заключенных “Сибирлага №0-33”.
В этот день, читая тайком “Правду”, они поняли: им всем вынесен смертный приговор.
Минск мой, безмолвная груда камней,
Груда могильных плит.
В городе мертвых утраты больней -
Шлойме Михоэлс убит.
Город безмолвных могильных плит
Страхом насквозь продут.
Камни безмолвны, но сердце кричит
В надежде на Божий суд.
Но много ли проку в надежде той,
Если она слепа?
Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой
Стала твоя судьба.
Это стихотворение, переведенное мною с идиша, было написано Файвишем Львовичем тогда, страшным январем пятьдесят третьего года, сразу же после прочтения погромной статьи в “Правде”.
Тогда старый еврейский актер Аронес и его солагерники Иосиф Бергер – Барзелай, бывший лидер компартии Палестины, раввин города Проскурова Шалом Носем Маргулис и другие евреи-заключенные не могли и помышлять о том, что годы спустя судьба уготовит им встречу в Израиле. Они предполагали, что в ближайшем будущем их ждет физическое уничтожение и что, может быть, в последний раз им дано отметить скорбную годовщину со дня гибели Соломона Михоэлса.
Ночью, после развода, забившись в дальний угол, они, уверенные в близкой смерти, провели вечер памяти Соломона Михоэлса. 15 человек, представлявших собой осколки еврейской культуры, как бы повернули время вспять и вновь, назло смерти и палачам, ощутили себя живыми людьми. Звучали стихи, монологи из спектаклей и снова стихи, написанные Файвишем Львовичем за колючей проволокой.
Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой,
Стала твоя судьба.
Эти строки читал Файвиш Аронес. И тогда к нему подошел православный священник, отец Николай, старый лагерник, лет восьмидесяти с лишним, страдающий за веру. Он сказал так: “Братья мои, евреи! Если Сталин пошел против вашего вечного народа, помяните мое слово, он обречен. Потому что ваш Бог не оставит его без наказания”.
Это было 13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня гибели Соломона Михоэлса, менее чем за два месяца до смерти Сталина, за три года до реабилитации Файвиша Аронеса.
“Выжить ему помогала душевная сила, - рассказывает его сын Майрум. - Он мне говорил: “Погибну я или нет, но внутри у меня есть то, что они отобрать не могут. Мой Израиль”. И это придавало ему стойкости, иначе он не дожил бы до освобождения”.
В 1972 году Файвиш Аронес наконец-то оказался в Израиле.
И сразу же вернулся к артистической деятельности. Вместе со своей женой Бертой (Беллой) Аронес, еврейской певицей, он выступал на израильских подмостках. Но до конца жизни, сколько я ни спрашивал, не мог назвать имя того ходока по трупам, который сломал ему жизнь. Кто он? Как близко находился? Сколько раз ему по-дружески пожимал руку? Жив ли, здоров? И ни о чем не жалеет?
Скорей всего, ни о чем не жалеет.
Они такие, внедренные в обыденную нашу жизнь. Вполне возможно, себя считают бойцами незримого фронта. И, может быть, даже гордятся этим. Им представляется: на них шапка-невидимка, и под этой шикарной шапкой можно обворовывать любую жизнь, вытаскивая из нее многие годы, которые затем выбрасываются за решетку и колючку в лагерные зоны.
ОДЕССА – НИЖНИЙ ТАГИЛ – МОСКВА
Я родился 16 апреля 1945 года, когда советские войска начали последнюю операцию Второй Мировой войны – штурм Берлинской цитадели.
Делопроизводитель Оренбургского (тогда – Чкаловского) ЗАГСа вписал в мою метрику имя Марик. Несколько дней я пускал пузыри, укачиваемый в колыбели мертворожденным именем.
Мои родители получили телеграмму от тети Фани, сестры моего папы Арона, о внезапной смерти ее мужа Фимы. Естественно, без каких-либо вредных для здоровья подробностей – «умер от разрыва сердца».
Таким образом тетя Фаня передала эстафету древнего имени, смысл которого – «жизнь», новорожденному мальчику, впитавшему, будучи Мариком, уже первые капли материнского молока.
Со смертью дяди Фимы и Марик ушел в небытие.
А я как бы родился снова, и при втором рождении стал Ефимом. Это имя вросло в мою метрику, отвоевав у Марика свое скромное жизненное пространство – сантиметр-полтора во главе строки. В результате, не успев произнести еще ни единого слова, я уже величался как какой-нибудь испанский гранд: Ефим Марик Аронович Гаммер, о чем любил вспоминать мой папа Арон.
Но в реальной жизни я никогда не пользовался многосложным именем. Мне и за глаза хватало одного. Фима... Вот и все, что мне досталось в наследство от борца-тяжеловеса, столь же остро воспринимающего слово «победа».
В этом рассказе, превратив на основе семейных преданий реального человека в литературного героя, я несколько изменил его фамилию и, может быть, не совсем точно отобразил некоторые моменты его биографии. На то он и литературный герой сегодня.
Дядя Фима скончался на перроне Московского вокзала, когда увидел, что его, недавнего подследственного, бывшего администратора Тагильского цирка встречает артистическая Москва. Встречает как чудо, как первую ласточку необъяснимо важной для всех весны, которая, по представлениям людей, должна была наступить с победой над фашистами.
Дядя Фима, не похожий после допросов на себя самого, ступил на московский перрон. Лицо здоровяка было превращено в сморщенную печеную картошку. Глаза, прежде вспыхивающие смехом, напоминали теперь подернутую ледком прорубь.
Единственное, что еще бессловесно говорило о настоящем Фиме, это кожаное пальто необъятных размеров, в котором он бултыхался, как неуправляемый парусник в штормовом море.
Дядя Фима ступил на московский перрон живым.
Дядя Фима увидел перед собой друзей-артистов, а в распахнутых сердцах – веру в чудо.
Фима был чудом для Москвы. Но в нем вера в чудо уже умерла.
Двужильное сердце борца-тяжеловеса не выдержало.
Фима разорвал на груди кожаное пальто и рухнул под ноги артистической Москвы. Мертвым.
И артистическая Москва все еще, наперекор смерти верящая в чудо, вдруг с ужасом осознала: Оттуда... Живыми... Не возвращаются...
ОТТУДА...
Фима попал «туда», как мне довелось услышать в детстве от взрослых представителей нашего семейства, угодив в шестеренки ура-патриотической кампании по изготовлению «японских шпионов» и их подмастерьев из цивильных сограждан. Он был администратором, своего рода директором цирка. О японцах, должно быть, совсем не думал. Более того, не предполагал, что и с ними предстоит война. Но, прослышав о том, что у уборщика сцены – а был он человеком азиатской внешности – больны дети, передал ему в цирковом буфете плитку шоколада. Не учел Фима – везде глаза, а где глаза, там и стукачи. Буфетчик по прозвищу Молочный король был глазастым и писучим. Все, что видел, описал, попутно высказал свои предположения и…
Уборщика сцены (корейца, либо китайца, попробуй различи, если к людям относишься без предвзятости!) сразу же после прочтения доноса возвели в ранг резидента вражеской разведки. Фиму зачислили в его пособники. А серебряная фольга, вымытая с растворенным шоколадом из желудков затюканных малышей была оформлена как шифрованное донесение.
Резидента, якобы японца (либо корейца, либо китайца), дабы не переводить харчи и государственные чернила на оформление дела – расстреляли. Его ребятню рассовали по детским домам – пусть не лакомятся шоколадом, предназначенным по официальной версии для цирковых слонов. А Фиму...
Вероятно, надобность в изготовлении японских шпионов отпала. Вероятно, готовящегося к принятию безоговорочной капитуляции немецко-фашистской Германии Главкома осенила мудрая мысль: на создание и разгром агентурной сети японских разведчиков у чекистов времени уже нет, а Красная армия и без этих условностей справится со своей дальневосточной сестрой – Квантунской. Вероятно... Впрочем, кто скажет доподлинно, что «вероятно» на самом деле. Мертвые не говорят, даже если их оставляют живыми.
ЖИВЫМИ…
Фима был живым человеком. Смерть не брала его даже из револьвера.
В пору великого голода на Украине, когда человек его комплекции был достаточно лаком для подпольных фабрик-кухонь, он бесстрашно хаживал по пропахшим кровью и порохом сельским дорогам. Менял пожитки на съестные припасы, и каждый раз, невредим и здоров, возвращался в родную Одессу, таща на горбу полотняный мешок, перетягивающий на весах той людоедской эпохи пяток-другой человеческих жизней.
В пору великого голода на Украине, когда в Одессе питались разве что страхом, слагая по привычке легенды о Мишке Япончике, досужие умы выбросили на рынок слухов новую подкормку.
Когда на глазах моей мамы, тогда совсем еще девчонки Ривы Вербовской, умер от голода ее младший братик Мишенька и следом за ним дедушка Шимон, обескровленная на бескормице Одесса питалась страхами о новоявленном черте из преисподней. «Глаза красные, и горят как угли. На лбу рога: раз вдарит по ребрам, и поминай как звали!»
Черт квартировал у въезда в город и собирал у всех мимоезжих людишек дань. Разумеется, натурой. А у кого ничего съестного не было, того брал к своей чертовой бабушке – на тот свет.
Фима знал о черте. Но, кроме того, он знал и о голоде.
Голод оказался страшнее черта, и он пошел в деревню с мешком обменных вещичек.
И вернулся. С запасом калорий. И с чертом, брыкающимся в мешке.
Черт встретил Фиму ночью. На подходе к городу. В точном соответствии со своим кодексом чести он вполне профессионально, с адовой старательностью, прожигал одинокого путника огненным взглядом, скреб копытами гравий, высекал в темени яркие искры.
Черт пах серой, а его наган несожженным порохом.
Фима пах караваем хлеба, сушеными фруктами и нерастраченной по пустякам жизнью.
Черт принюхался и, предвкушая удовольствие, весело заржал.
– Клади мешок на землю и делай отсюдова ноги. Спрашиваешь, куда? Туда, откудова тебя мама родила! – сказал он сквозь ржачку и, наклонив по-бычьи голову, сотворил устрашающий выпад рогами.
Фима положил мешок на землю, освободил руки. Секунду спустя черт лежал под ним, ошеломленный, раздавленный. Захват циркового борца был прочным, как волчий капкан.
Затем Фима обрушил кувалду кулака на чертову голову, и она, справедливости ради, раскололась. Из нее высыпали уже высохшие тыквенные семечки и два адских угля – фонарики.
Фима вторично обрушил кувалду кулака на чертову голову. На сей раз удар действительно пришелся по голове, а не по тыкве. И черт затих под ним, потеряв дар речи и чуть-чуть сознания – на несколько часов жизни, которые мог бы прожить как человек. Об этом черт не распространялся у стенки, куда его поставили, вынув из Фиминого мешка, ибо его тут же лишили пулей права голоса. А с того света не возвращаются.
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ...
Фиме довелось вернуться с того света. Один раз.
Второй раз не вышло. Но вот в первый – он обманул судьбу.
Ни с того, ни с сего, или в полном согласии с логикой пристеночного времени Фиме – цирковому борцу – поручили создать театр. Нет, не Большой, не Малый. В Москве они уже были в наличии. Цыганский!
– Товарищ Янкевич! – сказали ему с чувством победившего социализма. – Не кажется ли тебе, что назрела острая необходимость в национальном цыганском театре? А то, сам понимаешь, маэстро, народ без театра – это беспризорный народ. Ему негде собираться по вечерам, чтобы петь и смеяться как дети. Без театра этот беспризорный народ, Фима, поет и смеется на улицах и площадях, докучает партийной публике и членам профсоюза гаданиями за наличман о том, что будет. А То, Что Будет, известно, сам догадываешься Кому. Он конкуренции не потерпит. И То, Что Будет, окажется для гадателей и их клиентов совсем не медовым пряником. Так что дерзай!
– Но я же еврей! – вильнул Фима от назначения. – Что я знаю о цыганском искусстве?
– Ничего! – утешили его. – Не отчаивайся, что еврей. Евреи у нас проходят... пока еще... за самый правильный, самый интернациональный народ. Это потом, когда обрядят вас в безродные космополиты, мы пересмотрим свое мнение на ваш счет.
– За наш счет? – насторожился Фима.
– Нет, счет наш, а платить вам.
– Понял.
– Тогда тебе и карты в руки. Бери гитару, дерзай!
И Фима дерзнул.
Он отгрохал такой театр – закачаешься.
Государство не поскупилось на крупную растрату народного достояния.
Сцена была украшена бархатным занавесом, реквизированным, как поговаривали, из княжеского особняка. Оркестровая яма забита сверхдефицитными инструментами, национализированными у свадебных лабухов.
Как гласит предание, цыганское по духу, но еврейское по существу, власти не побрезговали и единственной на всю страну скрипкой Страдивари. Той самой, которую после отдали Давиду Ойстраху. С тайным желанием, чтобы ее скорее уже украли, иначе братьям Вайнерам не набрать документального материала для детективного романа «Визит к Минотавру».
Все было в цыганском театре, даже профком. Только цыган не было. Не хотели цыгане идти к Фиме в театр, чтобы петь и плясать для зарплаты. Рассудили, на нее не проживешь, все равно гадать за наличман придется. Так уж лучше...
Чего по горячке не наобещал Фима бродячим танцорам, певцам и любовникам! Даже по лошади, самой что ни на есть буденовской породы пообещал каждому, согласись лишь предстать перед своими сородичами и простым, иной масти, людом в звании заслуженного или народного артиста. И уломал-таки какую-то улично-таборную труппу, уговорил, на свою голову, понюхать, чем пахнет настоящий цыганский театр, сотканный на еврейский манер из мечтаний о равенстве за бесхозные государственные гроши.
Улично-таборная труппа пришла в театр на первую репетицию. Принюхалась к плюшу и атласу, кларнетам, скрипкам и гитарам. Спела, потрясая грудью, «Очи черные, очи страстные...» И ушла, унеся в необъятных юбках и шароварах все, что там уместилось. А там уместился почти весь театр – и бархатный занавес, и позолоченные ангелочки из-под потолка, и всевозможные инструменты. Уволокли все, кроме званий «заслуженных» и «народных». Что им эти заумные звания, если они и без того были «в законе»!
Что цыгане оставили Фиме, кроме головной боли?
Надежду, что повинную голову меч не сечет.
Но древнее изречение – не кодекс. Им не прикроешься от перекрестного допроса.
Правосудие поступило с Фимой, как он некогда с чертом. Припечатало его лопатками к могильной земле и... И вдруг само попало на скамью подсудимых, а спустя короткий срок то ли на Колыму, то ли на Соловки. Ему верней знать куда – правосудие!
Было установлено с достоверностью, характерной для тех пламенных лет, упрятанных по сгоревшим архивам, что правосудие вершили вредители. А раз это было установлено достоверно, тут же случилась перетасовка на нарах, и правосудие поменялось местами с осужденными.
Уголовники возглавили судейскую коллегию.
Воры-карманники составили новый кодекс.
Грабители-рецидивисты, педофилы-насильники писали душещипающие статьи по вопросам права и разным прочим вопросам, когда это право урезается до размеров револьверной пули.
Фальшивомонетчики заведовали неприкосновенным золотым запасом и антикварными ценностями российских музеев, пригодными к вывозу за рубеж.
А Фима? И Фима, наверное, в тот исторический момент всеобщей справедливости мандата и кулака-свинчатки мог бы сделать карьеру на юридическом поприще. Ибо он располагал с избытком основополагающими знаниями, которые требовались для этого: ровным счетом ничего не понимал в юриспруденции, кроме известной с измальства одесской аксиомы – «кто силен, тот и прав».
А силен Фима был. И стремился нерастраченную по пустякам природную свою силу, да и присущий ему талант отдать любимому делу – манежу.
Но и власти помнили о его силе и поставили бывшего борца-профессионала у кормила цирка. Чтобы в 1945 году, перед нападением на Японию, когда Сталину понадобилось опутать страну агентурной сетью коварного азиатского врага, снова взять его из цирка на скамью подсудимых.
Два раза с того света не возвращаются...
Фиму освободили за недоказанностью улик. Но «освобожденное» сердце не выдержало. И Фима, вытолкнутый накануне штурма Берлина с того света вторично, упал на перроне московского вокзала под ноги еще живых, но уже давно думающих о смерти людей. Упал, оставив после себя надежду на чудо, разорванное кожаное пальто и доброе имя, которое перекочевало ко мне, верное еврейской традиции.
Я живу в ладах с этим именем.
Это имя однажды спасло меня, вернуло с того света.
С этим и живу...
РИЖСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Но вернемся в 1 августа 1974 года.
Не знаю, как кому, но нам чрезвычайно болезненно давалось «узнавание» своих знакомых в роли ходоков по трупам. Во всяком случае, после этого разговора о моих якобы стихах, мне уже ни разу не удалось устроиться на работу в газету, хотя я был дипломированным журналистом – выпускником факультета журналистики ЛГУ и членом Союза журналистов СССР. Но… Согласно этому убийственному «но», для советской власти я, очевидно, стал идеологически неблагонадежным.
А для себя? Для себя, наверное, кудесником, впервые сотворившим чудо своими руками. Правильнее сказать, интуицией. Но праздника интуиции не придумано, а День чуда своими руками существует. И будем считать, этот день впервые я отметил 1 августа 1974 года, когда в популярных журналистах, пробующих себя и в литературе, внезапно увидел матёрых стукачей, хорошо законспирированных в среде моих творческих сослуживцев. Их имена я специально не упоминаю. В этом и надобности нет, теперь после публикации в Латвии имен негласных агентов КГБ. Моя задача в ином: показать, как вроде бы лёгкая, не оставляющая заметного следа в памяти и сердце агента-дознатора прогулка по трупам, способна привести невинного человека чуть ли не к гибели.
Со мной случилось именно так. В тот день, не умея отдышаться от отравляющего душу ощущения предательства, я будто умер.
Произошло нечто необъяснимое. Под вечер, чтобы развеяться от гнетущих мыслей, пошел в кинотеатр «Рига» на польский фильм, прибывший к нам с фестиваля в Каннах. В набитом до пределов кинозале – как же, фестивальный фильм! – мне из-за нехватки воздуха стало дурно. Я выбрался в предбанник, выводящий на улицу, и рухнул на каменный пол. Придя в сознание, я все же сумел подняться на ноги и отправился пешком домой. Вызвали врача, он «скорую» и меня помчали в больницу: диагноз «черепно-мозговая травма». Впоследствии мне доверительно сказали: «Вы были на грани жизни и смерти. Если бы не своевременная медицинская помощь»… Продолжать нет смысла, и без продолжения все понятно.
Я выжил, но почти месяц провел в больнице, практически не вставая с койки, а затем заново учился ходить. Оставалось осмыслить происходящее и определиться: куда двигаться дальше: пути в советскую прессу мне заказаны. Во всяком случае, в Риге. Здесь, помимо всего, известно, что моя сестра Сильва со всем своим семейством уже в Израиле, а это дополнительный барьер при поступлении на работу в любую редакцию, включая и многотиражку. Так что задумаешься: куда выпрямлять пути? Вновь ехать в Сибирь, где с 1972 по 1974, до зачисления в редакцию «Студента в спецовке», работал в районной газете таежного города Киренска «Ленские зори»? Или… В Израиль? Там мне при заполнении анкеты не придется лукавить с графой: «есть ли родственники за границей»?
Кстати, и в Сибири, в «Ленских зорях» никто не интересовался этим, да и никакие анкеты не предлагали мне заполнять. А вот смогу ли я на должном уровне взять интервью у Косыгина – именно у него, Председателя Совмина, Алексея Николаевича, их интересовало.
Спрашивается, почему у него, и какое отношение Косыгин имеет к таежному городу Киренску?
Загадка?
Что ж, тогда за отгадкой! Вперед, на север Иркутской области!
”ОРБИТА” КОСЫГИНА
I
Самиздат семидесятых... памятный самиздат. Породил сыскные команды, доносчиков и зеков. Потом, в свободные времена, историков, исследователей и кандидатов наук. В моем, еще непонятном для читателей варианте, - станцию телевизионной космической связи “Орбита”. Так называемую “тарелку”, отнюдь не инопланетную. Установлена она в таежном городе Киренске. И по сей день, должно быть, забавляет сибиряков московскими телепрограммами.
Как же и по какой причине, появилась она в таежном углу, где ни канализации, ни водопровода не существовало, а количество каменных строений можно было пересчитать на пальцах?
Но прежде текстовая загадка. Интересно, найдется хоть один человек, способный определить автора нижеследующих строк?
Подсказываю, не Пушкин.
Итак... “Внимание широких масс должно быть привлечено к вопросу кредитной политики. Правильная, классово-чуткая политика распределения кредитов в деревне - одна из основных задач”.
Ну?
Нет, эти строчки не из современного телешоу “Крестьянский вопрос”.
Нет, они даже не из письменных заявлений деда Щукаря, выдвинутого при лампасах и в смазанных сапогах в Думу. Они из Киренской газеты ”Ленская правда”, переименованной впоследствии, когда я работал в ней, в “Ленские зори”. №53 - (342). Суббота 7 июля 1928 года.
Название заметки “Международный день кооперации”. Автор - А.Н.Косыгин. Да-да, тот самый Косыгин, Алексей Николаевич, любитель джаза и сподвижник Леонида Ильича, борца за мир между народами и их поработителями, автора литературных произведений, написанных другими людьми - профессиональными журналистами, обладателя членского билета Союза писателей СССР №1.
Спрашивается, как А. Н. Косыгин очутился в такой глухомани - пятьсот километров на север от Иркутска? Ответ прост: он там работал в середине двадцатых годов, там и родилась его дочка.
II
Но сначала о Киренске...
Назван он не в честь Керенского. И не рожден от слова “кирять”. Древний царь Кир нам тоже до лампочки в этом непридуманном повествовании.
Город возник в давние стойкие времена. Из острога.
Непонятно? Пояснение: в давние стойкие времена, при завоевании Сибири, заложили в междуречьи бревенчатую тюрьму - “бежать не моги!” Справа надежной преградой Лена, слева взбаламошенная река Киренга, а кругом тайга - до Британских морей - с авторитетным даже для преступников Хозяином. (Кстати, психоватая Киренга и передала свое имя городу, потопив предварительно немалое количество его основателей).
Заложив острог, целинники подняли его до стропил. А затем заложили пятистенники для жильцов, солдат, разных работных людишек и всяких прочих сварных родственников, домочадцев и нарождающихся ненароком детишек. Потом, спустя годы и годы, для жен декабристов, сидящих в тамошней Кутузке. Они, эти жены, достигшие после кончины бессмертия, мало-помалу - при жизни – обучали грамоте и поднимали интеллект местного населения. Все бы им, местным, в тайгу, по кедровый орех, али на медведя. Еще рыбу горазды выгребать сетью, перепелку рукой безоружной сцапать, да и соболика в глаз примочить - все могли, не учась, по призванью. Вот Бомонд и французский язык, честное слово, ни то, ни другое им не давалось. И бежали они, местные, от училок - силки ставить, рысь раздевать донага, волку пасть выворачивать. А все стремление к просвещению скинули на собственного летописца, выкормленного ими за тягу к наукам березовой кашей с олениной.
Вот он - единственный - и учился. Учился и превозмог. Бонжур - говорил. И мерси - говорил, даже если били его невзначай по морде за эти неприличные слова.
Летописца звали Ким. Не путать с коммунистическим интернационалом молодежи или с популярным именем стахановцев и ударников. Ким располагал седой бородой, китайско-русско-якутской внешностью, родословной от Ермака, верительной грамотой от Чингис-Хана и нержавеющим стилом неведомого происхождения, из химически чистого железа, в ту пору - да и сегодня! - еще недобываемого. Была у Кима утеха - писать летописи. То бишь подноготную города Киренска. И писал, благо грамотный.
Мне доводилось читать его летописи, выправленные грациозным пером дворянского происхождения. Ошибок много. Оценки за сочинения явно завышены. Впрочем, я догадывался: поставь ему двойку, и один-разъединственный ученик звезданет тут же в гнездовище жень-шеня и накарякает там такое, что и через сотни лет Россия не отмоется от его наркотического бреда.
Поэтому ему, летописцу, позволялось училками из Петербурга писать только в классе, за партой. Иначе - кол. Угрозы эти Ким воспринимал по-азиатски. Во французском прононсе слышалось ему - “на кол!” И он из класса не выходил даже по нужде. Поэтому много сотворил летописей.
По ним выходило, что Киренск основан за двести лет до Москвы и по праву первородства наделен мессианским предназначением встать во главе Российского государства до скончания имперских времен.
Обман? Или намек на сегодняшний день?
Стилист, однако, он был превосходный. Вот примерец из его писаний.
“День вертит солнечный жернов к ночи. Ночь извергает небесный огонь на рассвете. И вспыхивают облака зорным заревом. Первые российские облака, нарожденные у восточных границ. Облака, коим нести очищающее пламя на запад, к отстающим в развитии от нового времени градам и весям Матушки-Родины. Сапоги там правят бал. А на паркет надо бы валенки”.
Так, приблизительно, писал летописец Ким.
III
Мне представляется, что Косыгин, Алексей Николаевич, тоже читал рукописи летописца Кима. Их не прятали в спецхране, тем более такого в Киренске не наблюдалось. В прошлом там даже не было ни одной библиотеки. Как и великого тяготения к знаниям, в особенности книжным. Однако произведения Кима кочевали из уст в уста, иногда и в письменном виде - для грамотных. Что в них правда, а что вымысел – не поймешь, но покрасоваться собой сможешь. Очень уж любо было киренчанам ущучить Москву: мол, вы от Ивана Калиты, а мы от атамана Бугра. Кто покруче будет, это еще посмотрим.
В 1928 году Алексей Николаевич Косыгин тоже вошел в литературный раж патриотов районного центра, где его предок по отцовской линии, как поговаривали местные старожилы, задолго до революции, слыл богатейшим купцом. Правда, воинственной силой творчества Кима-летописца Алексей не владел. Это и проявлялось нередко в его заметках - тогда внештатного корреспондента “Ленской правды”, популярного для малограмотных книгочеев издания.
Образчик его сочинений от 15 февраля 1928 года. “Ленская правда” №13 (301) Среда.
ВЫЗОВ КРИВОШАПКИНЦАМ
Деревня ждет “масленицу”. По подсчетам самих же крестьян д. Кривошапкиной, масленка обойдется им примерно в полторы тысячи рублей.
Я вызываю кривошапкинцев - бросить старые бытовые предрассудки и отказаться от традиционной “масленицы”. Оставшиеся средства обратить на приобретение облигаций 4 крестьянского займа “Укрепление крестьянского хозяйства”.
Думаю, кривошапкинцы, как жители одной из передовых деревень, примут вызов и выполнят лозунг т. Калинина: “Каждое крестьянское хозяйство должно иметь облигацию 4-го займа”.
А. Косыгин
По подшивкам тех времен я лично убедился: кривошапкинцы и петропавловские, марковцы и никулинцы - жители разных деревень Киренского района - предпочитали займу корову и лошадь, одного петуха на десяток кур, обрез и шашку. Неслухи, малообразованные партийной пропагандой! А может быть, благодаря этому и выжили? Сибиряки ведь все же... Кривошапками могли закидать всю Россию, если бы не были ленивыми.
IV
Что общего между двумя цитатами, приблизительной от Кима, достославного сына Киренска, и дословной от Косыгина, урожденного в Санкт-Петербурге? Общее - направление...
И слова летописца-Кима, и “вызов” его последователя, будущего председателя советского правительства Косыгина, нацелены с бесстрашием таежных жителей на Запад. Из полагающего себя в перспективе российской столицей г. Киренска туда, куда время обновлений еще не поспешает на своих куриных ногах. Каждому киренчанину это и без разъяснений ясно. Ему не гоже смотреть на компасную стрелку, и так знает, куда клонит ветер. И кривошапкинцев, и петропавловских, и марковских, и никулинских.
Я был близко знаком со многими - и кривошапкинцами, и петропавловскими, и марковцами, и никулинскими. Во всех гордыня. Выражается она так: пора скинуть Киренск с трона столицы района!
По-своему они все были правы. Что для них Киренск? Самозванная столица района, уродившегося ого-го каким: размером с европейскую страну, скажем, Францию. На телеге ехать - не проехать. А на барке только летом, по Лене или Киренге. Зимой наст. На оленях лучше. Словом, добраться хоть до одной деревни - летом ли, зимой - можно только с опричниками. А сибиряки и им уши могли отрезать из любви к справедливости.
Столицу своего района деревенские, мягко говоря, не любили. Тем более, что в темной древности - по дороге в современность - она была облапошена. И кем? Самобытным летописцем Кимом, дурачком местного значения, а может быть и философом. Он и превратил Киренск в островной город - нате вам! Объегорил Городского Голову! С ними бы, деревенскими, такой фокус-мокус у Кима не прошел бы. Они - Петропавловские, Никулинские, Марковские - жестоковыйные. Крепко стоят на материке и не колышутся от дуновения эпох.
Теперь загадка на сообразительность...
Как Киренск оказался островом? Вот вопрос! Вопрос всех вопросов! Для несведущих! Это известно любому старожилу глубинки, по летописям того же плодовитого автора. Хотя бы уже потому, что об этом случае из биографии Киренска он писал от первого лица. Слова такие... Впрочем, слов его употреблять не буду. Перескажу их, как в сочинении на вольную тему.
Итак....
Когда Ким повышал образовательный уровень у жен декабристов, его не выпускали из класса ни по малой, ни по большой нужде. Не дай Бог, убежит в тайгу, башебузик. К жень-шеню. Клюкве. Медведю и подругам его росомахам. Он и не бегал. Терпел и малую, и большую. Безденежье лютое доконало! А если посмотреть в корень, то там легко обозначено: у Кима, кроме учения, была специальность! Печник он! Печник! Самой высокой квалификации! По советским временам, считался бы ударником производства, на Доске Почета имел бы право висеть на зависть лодырям и прогульщикам.
Как-то раз получилось, что Городской Голова предложил ему сложить печь. И где? Не у черта на куличках. В собственном доме! Более того, за монеты звонкие, царской чеканки.
Ким и согласился, хотя вынужден был прогуливать занятия. Приработок все же дороже бесплатной грамоты.
Печь он сложил. Из глины первоклассной. Так как обладал секретом добычи этого строительного материала.
Но тут необходимо подчеркнуть: в ту пору Киренск еще не слыл островом и не стал посмешищем для деревенской публики. Да, его отлогие берега обегали две реки. Сибирские, естественно. Лена и Киренга. Между них был перешеек. Что позволяло доже в половодье выбираться в тайгу. По кедровый орех. Или на сохатого-рогатого. Белка тоже в хозяйстве пригодится.
Глину Ким добывал в потаенном месте. Где? Секрет производства, скажем, в пещере Альзам, на речном плесе. Притом с риском для жизни. Поскользнешься и завернешь вниз головой в своенравную Киренгу. Следовательно, если не убережешься, то непременно попадешь на корм рыбам, охочим до бесплатного мяса.
Но Ким был мастак! Не утонул.
Глину добыл, замесил. Печь поставил.
Деньги захотел получить.
Городской Голова сказал ему в день зарплаты: “А шел бы ты! К репрессированным декабристкам!”
Ким догадался: денег не будет никогда, потому что никогда их не будет. И ответил русскими словами. Без “бонжура” и “мерси”.
- Ты мне это припомнишь! И дети твои! И дети детей твоих! И все прочие потомки!
И пошел. Но не за парту. А к Киренге, туда, где выковыривал глину для печи. И там, на том примечательном месте, подвернул саперной лопаткой слабый на умишко грунт. И Киренга - не сразу, доложим, - а спустя несколько трудоемких лет тоже подвернула, вернее, вывернула дугой свое русло. И потекла, бурля негодованием, в обход Киренска. На встречу с полноводной подружкой Леной. Обхватила город объятием небывалой силы, окружила, как Паулюса в Сталинграде, и капут!
Вот и вся история. Вот вам и весь остров, невзначай возникший на территории Киренска. Вот вам и весь Ким. Грамотным был. А выучили его жены декабристов. На свою голову выучили. В результате он под их мужей-декабристов и взбунтовался, заодно взбаламутил всю Киренгу.
V
Платить деньгами за всякие новшества, даже включая займы, сибиряки мало желали. Другое дело, орехом кедровым, рыбкой выловленной, горностайчиком с прострелянной шкуркой - пожалуйста! К сведению для неверующих в характер заматерелых на сорокаградусном морозе мужиков доложу без стеснения: в 1971 году в одной из покинутых, по причине смерти от старости, деревне я обнаружил в подвале, леднике по-ихнему, десятки тысяч царских денежных знаков и много “керенок”.
Так что деньгами ни-ни! Натурой либо товарообменом. Тут и приспела цитата из Косыгина. Из ”Ленской правды” за 1928 год.
Рубрика: ВЕСТИ ИЗ ОКРУГА. (По телефону и спешной почтой от наших корреспондентов)
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ БЕЛКОЙ
В д. Максимово (Усть-Кутского района) комсомольцы организовали ячейку Осоавиахима. В ней насчитывается 17 человек.
Ячейка взялась за работу. Занятия проводятся по два часа в неделю, в дни отдыха ребята занимаются физкультурой, проходят строй.
Ввиду заморозков хлеба у некоторых нечем платить членские взносы. Но и тут ребята не отступили: вместо денег тащат в ячейку добытые беличьи шкурки. Собрали три рубля на выписку газеты.
Ячейка просит окружную организацию Осоавиахима прислать указания, как работать дальше.
После этой Косыгинской заметки, я догадываюсь, каждый встал бы на сторону кривошапкинцев и никулинцев. Какого черта им действительно нужен столичный город Киренск с его указаниями? Белку, конечно, нужно постращать, но ведь не ради членских взносов. Мясо для пропитания, а мех на продажу сгодится. Тогда и смысл жить, как положено, по древнему закону семьи, с уваженьем к заезжим китайским торговцам, а их расстреливают, будто они японские шпионы. Какие они шпионы, если деньги наличными?
Они платят, их расстреливают. А партийцы? Партийцы не платят, сами требуют деньги и ради них морочат головы газетными шапками в “Ленской правде”:
КРЕЧЕТОВ - КРЕСТЬЯНСКИЙ СЕРЕДНЯК КУПИЛ НОВОГО ЗАЙМА НА 120 РУБ.
С МЕСТ ИДЕТ ПРИЗЫВ К КРЕСТЬЯНАМ ОКРУГА - НЕ ТРАТИТЬ НА “МАСЛЕННОЕ ГУЛЬБИЩЕ” ДЕНЕГ. А КУПИТЬ НА НИХ ОБЛИГАЦИИ.
Был у меня соблазн: поинтересоваться судьбой середняка Кречетова. Но ни в одной деревне - ни среди кривошапкинцев, ни среди марковцев или никулинцев - нигде я не получил его прижизненный адрес. Может быть, его и не существовало? В особенности, после сообщения о том, что не в общак, а на какой-то поганый займ кинул он свои натруженные рубли.
И все-таки мне повезло. На обочине от темы про середняка Кречетова. В деревне Марково. От деревни ничего не осталось. Все вымерли, кроме домотканного старичка, невыразимого количества лет на вид. Он говорил, что ему сто двадцать. По-библейски.
- Дедусь! - спросил я при встрече. - А какая власть была на дворе, когда ты уродился?
- Наша!
- Какая, дедусь, ваша?
- Я их маму имел!
- Так вы, дедусь, еще старше, чем себя изображаете.
- Я с Ермаком ходил в поход. И взял себе якутенку. Она мне трех щенков принесла. И подохла. Собака оказалась дряхлая.
- У вас, дедусь, со здоровьем...
- Мы с пониманием. После ста возвратная молодость. Наливай – не жалей!
- Да вы, дедусь, философ!
- Философом я был во времена Гиппократа. Я ведь прислан сюда опосля медицинского факультета. Скольких я вылечил, скольких спровадил на тот свет. И все мне благодарны. Жалко, деревня вымерла. И я готов - туда, к ним. Во здравье, так сказать, родины. По стаканчику! И вперед!
Стакан я ему, естественно, налил. (По Сибири не ездят без пузыря).
Старик хлебнул и повеселел. И, раскрыв уши пошире, готов был слушать и с напрягом вспоминать, что положено.
- Дедусь! Я к вам в Марково завернул не по оплошности. Тут у вас возник комсомольский почин. В году двадцать восьмом, как о том писал в газету товарищ Косыгин.
- Мы, милок, живем без починок. Как уродились, так и живем – хлеб жуем, покуда зубы на месте. А когда зубов нет. употребляем жидкую пищу. Наливай – не жалей.
Я опять налил, хотя интуиция подсказывала мне: будет перебор. И действительно, дедок зевнул раз, зевнул два, уронил голову на стол, и дал храпача. Не добудишься, даже стуча стаканом о стакан. Так что мои журналистские изыскания ни к чему не привели. И мне ничего другого не оставалось, как, возвращаясь на морозе в Киренск, читать и перечитывать корреспонденции А. Косыгина, и с горечью осознавать: активность местных жителей пошла на убыль. Ну, это и понятно, если деревня вымерла. Не то, что раньше, когда…
МАРКОВСКИЕ КООПЕРАТОРЫ ПРОЯВИЛИ АКТИВНОСТЬ
12 января в Марковском народном доме под руководством союза совторгслужащих была поставлена пьеса из кооперативной жизни “Именины подвели”. Реклама была вывешена за два дня вперед, весь сбор от спектакля должен поступить в пользу красного уголка.
А. Косыгин. “Ленская правда” январь 1928 года.
Не знаю, какую пользу получил красный уголок от этого сбора. Представляю, сбора вообще не было. Сибиряки, как отметил, предпочитают платить кедровым орехом, белкой, но не наличными. При слове “наличные” у них чешутся кулаки.
VI
Теперь от древнего дедуськи надо повернуться лицом к Алексею Николаевичу. Нет, уже не к внештатному корреспонденту “Ленской правды”, ставшей затем “Ленскими зорями”. А к политическому лидеру одной из крупнейших держав в мире.
Случилось так, что в 1973-м году т. Косыгин вознамерился вернуться на день-другой в “Альма-Матер” свою, в Киренск.
Желание это возникло у него в Якутске. Там он принимал японского посла. И, наверное, принял с послом на грудь по четвертинке. Японец - рисовой, он - московской. Башка поехала. У обоих. Японец всплакнул о своей хижине из папиросной бумаги и мотанул в Токио. Косыгин со слезой в голосе вспомнил о своих журналистских писаниях в таежном городе на острове, где родилась его доченька. И, отдав должное притягательным воспоминаниям, приказал отбить телеграмму в Киренск. “Приезжаю! Ждите!! И дождетесь!!!”
Отбивали телеграмму с трепетом в пальцах.
Получили ее с трепетом в сердце.
Что делать?
Самое простое заключается в том, что у Косыгиных в Киренске, по заверениям старожилов, имелась собственность. Наследственная, от предков купеческого рода – владельцев каботажных судов, бороздящих сибирские реки.
Старики поговаривали. Молодые мотали на ус, если уже отрос. А нет, так держали в памяти. Хотелось знать доподлинно. Но иди - проверь! Архивы для беспартийных закрыты.
Догадываюсь о соображениях Киренского начальства. “Ну, не будет внук-правнук капиталистов, если он председатель Совмина и сподвижник Брежнева по борьбе за мир, претендовать на Ленский речной флот. Он ведь еще без Горбачевских представлений о приватизации и последующего превращения из коммунистов в олигархи. Но дом родной? Почему бы ему дом родной не увидеть? Ностальгия их в Москве замела, если килаются в глухомань, где и туалетного сидяка никогда в наличии не наблюдалось”.
Вот с этим “сидяком” и возникли у нас в газете “Ленские зори” большие проблемы. Дело в том, что все совслужащие ходили во двор. И по малой нужде, и по большой. И неважно было, ты главный редактор, или ты корреспондент, или маленькая как птичка линотипистка.
Туалет один. Туалет на всех. Он дощатый. При температуре минус сорок ничем подозрительным не пахнет, так что санитария стопроцентная. Но... из-за небрежности, или из-за недостаточного внимания к предмету употребления, на нем, то есть вокруг “очка”, вздымались айсберги из мочи и всяких неприличных для этого рассказа фекальных штучек.
Картинка нарисована. А подтекстовка к ней такая: Косыгин обязательно заглянет в редакцию газеты, в которой сотрудничал внештатным корреспондентом и писал свои произведения, в отличие от Брежнева, самостоятельно. Заглянет в редакцию и вдруг…
Что вдруг?
В редакции “Ленских зорь” в первую очередь подумали о туалете. “А вдруг он захочет покакать?”
Это уже доподлинная цитата. Однако не выдам ответственного человека из редакции районной газеты, первым осознавшего о неучтенных протоколом проявлениях Косыгинского организма. Организм, он и есть организм. С ним всякое случается.
Редактор Хохлачев вызвал слесаря Диму. И приказал, под воздействием приезда высокого гостя:
- Немедленно убери эти наледи с писями!
Дима не просыхал на работе. Такая была у него работа - не просыхать. Потому и уточнил, чтобы не ошибиться.
- А говно?
- Все убери!
- Трешник. И двойняк вперед.
Надо отдать честь слесарю Диме, он не воспользовался “двойняком”, чтобы тут же его пропить. Он уважал свою универсальную профессию. И потому пригласил за рублевку шахтера, у которого по случайности был выкраден из Донбасса, от пьяного беспробудно Стаханова, отбойный молоток. Этим отбойным молотком они раскололи глыбы неприличного по внутреннему содержанию льда и спустили их в очко. Но... перед тем, как идти пить, вспомнили: Косыгин - интеллигент, ему подавай товар в чистом виде, без микробов и бацилл. Они посовещались, чтобы сойтись во мнении: разводить микробов и у придурка ума хватает. И тогда - в один голос - решили: выпить мы все равно выпьем. А рабочая гордость? Это чистота и порядок!
Сбегали они на Лену с коромыслом, принесли в туалет два ведра. И помыли все, как и полагается, чтобы Косыгин, садясь крабом на очко, не лицезрел по партийной принципиальности всякие нечистоты. Вот теперь-то, проделав трудоемкую работу, включая в нее и подходящую по случаю русскую смекалку, пошли пить. И пили до самозабвения.
Если бы сегодня здравствовал Косыгин и знал бы о том, как заботились о его животике в редакции ”Ленские зори”, он обязан был бы выдать всем сотрудникам этой газеты Государственную премию по экологии.
А как же иначе? Представьте себе, в продолжении зашкаливающих инициатив, стараниями редакционных сотрудников, с привлечением художника из таежной интеллигенции, был сочинен транспарант. Красным плакатным пером по белому полю ватмана старательно вывели: “Туалет вниз, во двор, и налево!”
Признаюсь, имея на стене такой путеводитель перед глазами, никогда, даже по мути великой, не заблудишься.
Казалось бы, пора вздохнуть свободно.
Но не тут-то было Внезапно в редакции “Ленских зорь” раздался нечленораздельный вопль.
- Приехал!!!
Предварило вопль то, что редактор газеты Хохлачев выглянул из окна на скованную снежным настом Лену и узрел кортеж легковушек, в основном “Москвичей”, конфискованных, понятно, у местных жителей. На день-два-три-четыре, сколько понадобится, чтобы достойно принять высокого гостя и проводить его затем в аэропорт.
Чинно, по порядку, без самурайских самопожертвований личности, шли они по реке. В одном из салонов, но в каком - это секрет, везут САМОГО!
Углядев столь раздирающую душу сцену, Хохлачев растерянно молвил:
- Приехал? Почему не сообщили?
Схватился за телефон. И давай названивать по начальству.
Страх окутал редакцию. Дело в том, что таежный художник запил. И не успел из-за нехватки краски пририсовать к транспаранту стрелку, с уклоном: мол, вниз по лестнице, и во двор, пожалуйста.
Однако обошлось. И суматоха улеглась. Наша машинистка, среагировав на крики, преобразовалась в художника и израсходовала весь тюбик губной помады на этот дорожный указатель. Так поступают советские люди!
Потом выяснилось - тревога была ложной. Кортеж машин проводил просто-напросто тренировочный пробег. На случай приезда Косыгина. И не по пьянке, по приказу горкома партии. Кстати, трезвыми водители были потому, что все виды алкогольных напитков уже изъяли из магазинов. А участникам тренировочного пробега пообещали по два литра спирта, если они заведутся и поедут. Они и завелись. И поехали. Им холод - не тетка.
VII
Главная проблема с Косыгиным, пославшим телеграмму из Якутска, состояла вовсе не в очке, которое стараниями слесаря Димы и его товарища было готово к приему фекальных масс и прочих испражнений. Главная проблема, вернее неприятность, торчала занозой в том, что никто не помнил дом, в котором Косыгин родил свою дочь.
Мне, как бывалому журналисту, дали редакционное задание: обнаружить этот таинственный пятистенок. При удаче, намекнули с двужильной ясностью в очах, лично я возьму интервью у Него.
Казалось бы, Киренск - город маленький. Его обойти своими ножками - это всего час-два. С одной стороны - Лена, с другой - Киренга. Не запутаешься. Двинул я на поиски и попал по подсказке знающих людей в заводское общежитие. Гляжу, комендант, могучая баба с задатками штангиста. Сидит за канцелярским столом, пьет чай вприкуску с кусковым сахаром.
- Что вам надо? – спрашивает подозрительным тоном, будто я пришел проситься на ночлег.
- Мне? Надо узнать: здесь жил Косыгин - да или нет?
- Нет! Здесь никто такой не жил.
- У вас есть доказательства?
- Я тебя паспорт? Кто ты такой на мою голову, чтобы спрашивать о Косыгине?
- Я из редакции «Ленских зорь», вот этой, - показываю ей на газету, лежащую вроде салфетки под фаянсовым чайничком с заваркой. - У меня задание найти дом Косыгина. Тот, в котором он жил здесь.
- А зачем?
- Затем, что Косыгин опять приезжает сюда, доходит? Дом свой хочет увидеть! А у меня наводка, что жил он именно тут.
- А-а-а! Косыгин? Тот Самый?
- Самый-Самый! Показывай хоромы.
- Они не виновиты!..
- Кто?
- Они там... там они... с работы... неурочное время, сам понимаешь... пьют и любятся... но не прилюдно, а так втихую, под одеялом. Так что не виноваты, втемяшь в свою голову!
VIII
Самое поразительное, я попал по адресу. Старый и чрезвычайно по-советски опытный редактор Хохлачев дал мне правильное направление. Другое дело: тетка-комендантша не представляла себе, чем командует. Впрочем, необходимо пояснение. Тетка-то знала, где командует – в рабочем общежитии. Не знала другое: на месте общежития прежде стоял Дом Косыгиных. Избу эту из-за отсутствия жильцов снесли еще в каком-то занюханном пятьдесят втором, когда боролись с космополитами. И построили общагу. А тут, представьте себе, у Косыгина в голове ностальгушки. Он хочет посетить Коробок нержавеющей молодости.
Секретари райкома, догадавшись о Косыгинских пожеланиях, приняли единственно правильное и, понятное дело, гениальное решение: немедленно выселить из помещения всех работяг. Провести там срочный ремонт. Повесить портреты Брежнева и Косыгина на стенах, и показать их председателю Совмина во время экскурсии по исторической Родине его дочки. Пусть себе поет под Роберта Рождественского: “Что-то с памятью моей стало”.
Здесь необходима словесная пауза. Здесь необходима минута молчания.
Суть всей стратегической операции, проводимой в Киренске, заключалась в ином. В город завезли телевизоры. Их уже все - до последнего - раскупили. А смотреть в них - это как в оловянное зеркало, когда по старинке причесываешься. Не то, что Москву, Ленинград - свой областной центр Иркутск не увидишь. Без спутниковой связи. Связь же в Киренске была, как в вышеописанном общежитии - половая.
Местным жителям представлялось - решение об установке в этом древнем городе современной “тарелки “ может принять только Косыгин. Поэтому его надо и обрадовать видом родного пятистенника, взять интервью, показать художественно оформленную красной помадой стрелку на транспаранте в дворовый туалет. Словом, удивить и обрадовать ростом культуры в дикой провинции.
Ведь никто другой! Он - именно он! - писал о развитии жизни в лучшую сторону. Вот пример.
КАК ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ
На израсходованную сумму по содержанию ревизионной комиссии можно содержать постоянного платного квалифицированного работника. Ревизионная же комиссия, получив деньги, ничего не сделала и не оставила результатов и следов своей работы...
А. Косыгин
”Ленская правда”. №33 - (332). Среда 25 апреля 1928 года.
На ремонт общаги райком партии тоже израсходовал много народных денег. Но при этом следует заметить, эти деньги действительно пошли на доброе дело. Впоследствии заводские ребята снова вселились в этот дом и жили уже в гораздо лучших условиях. Правда, после работы продолжали заниматься своим любимым делом - пить водку и любить красивых киренских девушек.
Самое пикантное во всей этой фантасмогории заключается в том, что Косыгин так и не прилетел из Якутска к нам. Погодные условия оказались в последний момент не ахти подходящими для его здоровья - нелетными. И он, не приземлившись в Киренске, махнул прямиком в Москву.
Интервью с ним не состоялось. Но состоялось подключение Киренска к станции космической связи “Орбита”. И закупленные впрок телевизоры стали демонстрировать нам выступления на трибуне Кремлевского зала Брежнева, Косыгина, Суслова и других старцев Марксизма-Ленинизма.
Как же киренчане добились такого чуда? Все это очень просто.
Сидя на чердаке нашей редакции, я раскопал подшивки газеты - за прошлые годы. И обнаружил статьи и заметки А. Н. Косыгина. И тогда, зная, что любому автору интересно почитать самого себя, а не товарища Брежнева, предложил редактору Хохлачеву выпустить подарочный номер “Ленской правды” с материалами бывшего рабкора нашей газеты. Он и был выпущен в трех экземплярах. На ватмане. Полосы с версткой я успел прихватить в типографии, еще до того, как все спохватились: делают ведь Самиздат! Причем, очень необычный. Еще нагорит!
Чтобы не нагорело, один экземпляр отправили в Иркутск, в обком партии.
Второй экземпляр приватизировал райком партии.
А Косыгину прислали в Москву Главный Экземпляр. И к нему приложили просьбу: подключить Киренск к спутниковой телевизионной связи. Председатель Совета Министров, умилившись своим ранним произведениям, исполнил просьбу земляков. И “тарелка”, именуемая в обиходе “Орбитой Косыгина”, вознеслась в таежной глубинке - над пихтами и кедрами.
Жители этого сибирского края надеялись вырваться за счет телепрограмм из своей отсталости к московским проспектам. Знали и помнили: Косыгин им в этом поможет. Ибо еще на заре Советской власти он писал о прорыве сельского жителя к всеобщей культуре. Правда, желание мужиков получить за ценную пушнину не только зерно, но и табак, чай, сахар он называл иждивенчеством, все больше стремясь проводить высокую политику - навязать населению займ, утвердить государственную монополию на закупку пушистой охотничьей добычи, потому и стал впоследствии важным государственным деятелем.
А вот его нетленные строчки. Ими, пожалуй, я и закончу это повествование.
БУРСКОЕ БОЛОТО
Отдаленность от города, от своего районного центра Макарово, к которому Бур совершенно экономически не тяготеет, послужила одной из причин чрезвычайной культурной отсталости Бура сравнительно с другими селениями нашего округа.
Регулярного почтового сообщения нет. Письма, газеты идут с большим опозданием даже в зимний период, не говоря уже о летнем, когда почти всякое сообщение отсутствует.
Из культурных учреждений имеется лишь красный уголок, работа которого поставлена весьма слабо: арендуемое помещение не приспособлено, никакой общественной культурной работы не ведется.
В то же время культурных сил для деревни в 40 домов, надо считать, больше чем достаточно: здесь обследовательский пункт РОКК, в котором работает врач, фельдшер, имеется учитель, посылаются ежегодно работники Ленсоюзом для постоянной работы в кооперативе. Однако, несмотря на такое большое наличие сельской интеллигенции, общественность в деревне отсутствует.
По словам местного крестьянства, врач, фельдшер на сельские собрания совершенно не ходят, учитель на собраниях бывает редко.
То же наблюдалось на общем собрании, где стоял вопрос о создании интегрального машинного т-ва: учитель пробыл на собрании 10-15 минут и почти не принял никакого участия. Выступления учителя показывают его малую приспособленность для ведения общественной работы среди крестьянства. Небольшое выступление учителя на сельском собрании пестрит словами: “идеология”, “психология” и др., совершенно чуждыми крестьянству.
Все это способствовало возникновению того общественного болота, которое сейчас имеется в Буре...
Работа по распределению займа не велась, среди крестьянства не распространено займа ни на один рубль. Полученные облигации займа в Бур на 35 рублей были распространены исключительно среди местных служащих.
Председателем сельсовета было заявлено, что заем у них вообще нельзя распространить, а кто хочет купить, может купить в городе (за 200 верст), никакой разъяснительной работы по распространению займа проведено не было...
Наиболее активную часть собраний составляют группы из бывших торгашей - таенов, которые в прошлом закабаляли и кредитовали тунгусов, однако ни один из таенов избирательных прав не лишен.
Наибольшим же злом района является острая конкуренция среди заготовителей пушнины.
К сезону заготовок в Бурском районе работало четыре заготовителя: потребобщество, госторг, охоткооперация, киренское кредитное т-во. Два последних заготовителя выезжали специально для заготовок белки и после сезона, оставив розданные кредиты, уехали.
Регулирование кредитами отсутствует, сельсовет этим не руководит, никакой согласованности среди заготовителей нет. В результате такой заготовительной работы нет ни одного двора, ни одного охотника, который не был бы должен заготовителям, причем суммы розданных кредитов в отдельных хозяйствах достигают 400-500 руб. на двор. Бесконтрольное и бессистемное кредитование всех заготовителей, лишь бы больше захватить пушнины, создало и укрепило иждивенческие настроения у населения.
Иждивенческие настроения настолько сильны, что, объявив на собрании о выделении ссуды Ленсоюзом в размере до 600 пудов хлеба на кредитование населения ввиду неурожая, не только не удовлетворило участников собрания, а сейчас же было предъявлено требование о выдаче в кредит и других продуктов, как-то: масло, чай, сахар, табак и прочее под осеннюю пушнину...
Среди крестьянства ведутся разговоры, что пушнина нужна всем заготовителям, а раз так, значит, будет и кредит. Не даст кооператив, пойдем к Маркову (так называют Госторга) - там дадут.
Так что следует урегулировать вопрос о числе заготовителей на Буре, не допуская к сезону заготовок выезда гастролеров...
А. Косыгин
”Ленская правда” №32 (321) Суббота, 21 апреля 1928 года.
Как видим, в регионе величиной с иную страну, “из культурных учреждений”, по словам будущего главы советского правительства Алексея Николаевича Косыгина, имелся лишь красный уголок, “работа которого поставлена весьма слабо”.
Ну, теперь и прикиньте, насколько своевременным было вмешательство спутниковой связи и телевизора в развитие культурного потенциала жителей той замечательной по природной красоте местности. Произошло это в первой половине 1970-х годов.
В историческом масштабе совсем недавно, когда на повестке дня прорисовывался вопрос ”ехать или не ехать”? Но уже не в Сибирь, а в Израиль.
ЧТО ТАМ, НА ГОРИЗОНТЕ?
На работу в редакцию меня никуда не брали. Как дело доходило до анкеты, говорили: «мест нет». Причём, редакторы различных изданий приглашали меня по собственной инициативе, а завкадрами отклоняли мою кандидатуру по инициативе сверху, исходящей от неведомого партийного беса, чьи слова о трудоустройстве евреев в Советском Союзе той поры были на слуху у всех отъезжантов: «Не принимать и не продвигать».
Однако эти слова не способны были обезволить мое творческое «я».
Во втором номере иркутского альманаха «Сибирь» за 1975 год напечатан мой очерк «Когда страна быть прикажет героем…» о феноменальном бойце Красной Армии Никодиме Корзенникове.
С ним я познакомился в Восточной Сибири, когда жил там и работал в газете города Киренска «Ленские зори» – на севере Иркутской области. Дима Корзенников был единственным во всех армиях мира глухонемым от рождения солдатом. В армию он пошел добровольцем. Было это в Ленинграде, в 1941 году.
Отважного сибиряка направили в 9-е специальное подразделение, совершавшее рейды по тылам противника.
Спасая командира отряда, он попал в плен. Его жестоко избивали, не догадываясь, что он и при всем желании не способен выдать какие-либо мифические военные тайны – глухонемой! Диму приговорили к смертной казни через повешение, но он ухитрился сбежать в лес из-под нависшей над ним петли. Раздобыл немецкий автомат и вышел к своим. Но свои его не признали за своего, а приняли – раз не говорит по-русски – за немецкого шпиона. Однако, документы, вовремя прибывшие из Приморского райвоенкомата города Ленинграда, где Дима был призван в Красную Армию, сыграли спасительную роль в его судьбе. И он смог продолжить свою войну с фашистами: стал пулеметчиком, воевал на «Невском пятачке» до тяжелого ранения. Затем валялся по госпиталям, не зная, что еще в 1941 году был представлен к медали «За отвагу».
Документальную повесть о Диме Корзенникове «Феномен образца 1941 года» я предложил в Иркутске Восточно-Сибирскому издательству, полагая, что книга выйдет в свет к 30-летию Победы. Но цензура книгу не пропустила. Главный редактор Восточно-Сибирского издательства Балдаев, разочарованный решением Главлита, вынужден был мне уклончиво ответить такими словами: мол, компетентные органы считают еще ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ публикацию книги о Диме Корзенникове, так как теперь, НАКАНУНЕ 30-летия ПОБЕДЫ, иностранные средства массовой информации тщательно СЛЕДЯТ за всеми публикациями на эту тему.
От себя добавлю: не смешно ли все это? Чего боялись? Героизма собственного народа? Каких разоблачений опасались? Того, что на фронт рвались даже инвалиды и увечные? А также и заключенные. В том числе и мой дедушка Аврум Вербовский, инвалид Первой мировой войны. Осужденный в 1940 году по доносу, из которого вытекало, будто бы ожидает не победу коммунизма, а явления Мессии, не интернационального, между прочим, по партийной принадлежности, как мировая революция, а сугубо еврейского свойства и ориентации. Именно так он воспринимает несмолкающую в Одессе песню о приходе из Бендер поезда, последнего, не последнего, но обязательно в семь сорок.
Послушаем эту песню? Может, и прав был в своих домыслах мой дедушка Аврум, когда намекал о непременном явлении Мессии.
Семь сорок наступило.
Часами все отбило.
А поезд не приехал.
Нет его и все, но вот
Мы все равно дождемся.
Мы все равно дождемся,
Даже если он опоздает и на целый год.
Мой дед Аврум вырос в Одессе, на Молдаванке, по соседству с Мишкой Япончиком, еще в ту пору, когда тот звался по имени Мойше-Яков, по отчеству Вольфович, а по фамилии Винницкий. Они иногда встречались, говорили друг другу «здрасте вам». И мой дед уходил от Мишки Япончика налегке, без сапог, в тапочках на босу ногу.
Не подумайте дурного. Мой дед Аврум торговал сапогами, а Мишка Япончик был его клиент, щедрый на шутку и револьверную пулю. Они жили в одном квартале, на расстоянии пистолетного выстрела, но в 1914 году, когда грянула Первая мировая, оказались на разных фронтах. Мишка по-прежнему «воевал» в ночных отрядах одесских налетчиков, а мой дед Аврум пошел добровольцем в русскую армию, чтобы бить немца.
Три военных года подряд моему деду Авруму, призванному с одесского базара в действующую армию, внушали такую «любовь» к немцу, что его трехлинейка ни разу не дала осечки.
А потом? Революция, Советская власть.
Мой дед Аврум вернулся в Одессу. На толчке, где он и до ухода на фронт, торговал по семейной традиции сапогами, встретил старого знакомца по имени… Назовем его Меер Завец, Теперь он не хухры-мухры, а комиссар торгового ряда и ззаписал моего деда в «нетрудовые элементы».
Мой дед Аврум не понимал таких словесных новшеств. Он продавал сапоги. И считал, что живет на трудовые доходы.
Но Меер Завец сказал ему – «нетрудовой элемент». И получил по зубам, чтобы щеголять согласно своей высокой должности золотой коронкой.
Меер Завец щеголял золотой коронкой и держал на моего деда большой здоровый зуб. А когда прослышал о том, что его обидчик воспринимает песенный приход поезда из Бендер как явление еврейского Мессии, понес эту ахинею на прием местным чекистам. У них как раз намечался недобор по изъятию врагов народа из здорового коллектива базарного люда. Вот они и арестовали моего деда Аврума, чтобы из нетрудового элемента он переквалифицировался в профессионального дровосека на повалке леса в Соликамске.
Там, на лагерной делянке, дающей рекордный процент подневольной выработки древесин, он вновь повстречался с Меером Завцем, теперь уже, что закономерно для тех пристеночных времен, тоже зэком. И сотоварищи-уголовнички, приветствуя такую закономерную встречу обвинителя с подследственным в местах не столь отдаленных, умело обрушили на них подрубленное дерево.
У Меера Завца, раздавленного могучим стволом, была всего минута, чтобы, помолившись, тихо испустить дух, но он во весь голос изливал хулу на моего деда, называя его бандитом. И уголовнички засовестились в содеянном, признав инвалида мировой войны за своего, социально, так сказать, близкого – «даром что еврей, божий человек все же». Несколько верст тащили его на волокуше по глубокому снегу, пока не добрели до лагерного медпункта, где к переломанной ноге старого солдата прибинтовали стопу задом наперед. Нога срослась неправильно. И он стал заново учиться ходить, чтобы искать правду. А так как его нога смотрела совсем не в ту сторону, то он делал шаг вперед, а два назад – точно, как советская власть, когда она училась ходить в соответствии с бессмертной работой Ленина. (Кто ее сегодня помнит?)
Естественно, что расхаживая таким образом, правду в концлагере он не нашел. И посему попросился добровольцем на фронт. Благо, война уже была в самом разгаре, причем со старым его знакомцем – немцем. И на замену выбывшей из строя живой силы требовалась другая, пусть и полудохлая.
Простреленной в Первую мировую рукой дедушка Аврум писал заявление на Вторую мировую.
– Чем такая жизнь, лучше отдать ее за товарища Сталина, чтобы у фашистов темно в глазах стало и все кишки из живота вылезли наружу, – написал он не совсем грамотно, притоптывая от нетерпения изувеченной на лесоповале ногой.
Просьбу его уважили, изможденного от голода и болезней добровольца направили на медицинское освидетельствование. Однако врачам он не приглянулся. Калека. И вместо фронта, в награду за отчаянную решимость отдать жизнь «за Родину» и, якобы, согласно надиктованной ему писуле, «за Сталина», старому солдату скостили чуток срок. И в 1944 году выправили путевое предписание в родной город «Капитанской дочки» Оренбург, тогда Чкалов, охранником на авиационный завод №245, где работали в бригаде жестянщиков моего папы Арона его дочери Рива, моя мама, и Беба.
Вот такая история. Но, как выяснилась, и после разоблачения культа «не печатная», никак она не вписывалась в понятия социалистического реализма.
Подобно истории Никодима Корзенникова. Что тут поделаешь? Думаю, теперь, спустя столько лет, никому, даже ветеранам советской цензуры, не придет в голову, что повесть о невероятной воинской судьбе глухонемого от природы русского солдата из таежной Сибири Димы Корзенникова, будь она издана на родине героя, выходит в свет «преждевременно. Тем более что она уже напечатана в сибирском журнале «День и ночь», №5-6 – 2006 и была удостоена премии на международном литературном конкурсе «Добрая лира» – Санкт-Петербург, 2007.
Подумать только, более тридцати лет рукопись пролежала у меня дома, сначала в Риге, потом в Иерусалиме, прежде чем выйти в открытый мир к людям. А вышла, и читается, будто время над ней не властно.
С человеком так не случается. А тут еще: «ехать – не ехать». Но уже не в Сибирь, а в Израиль.
– Тук-тук!
– Кто там? Сто грамм?
– Стук-постук боксерских перчаток.
– Чего вдруг?
– Не больным же тебе ехать в Израиль.
– А последний поезд? Он же…
– Еще нет! Запасается углем перед дальней дорогой.
РИНГ НЕ ЗНАЕТ НИЧЬИХ
Что кормит надежду?
Если надежда беззуба, ее кормит душевная усталость. С ложечки. Кровью.
Если надежда зубаста, ее кормит болезненное честолюбие. С ножа огрызками сердца.
Моя надежда – зубасто-беззубая, с разбитой челюстью. Кормлена она кровью моей и сердцем. От пуза. Досыта.
Жировые складки на теле ее ходят приливными волнами. То ли волнами счастья, то ли отчаяния. И разбиваются о действительность, как о мол.
О, этот Мол действительности.
Живи в миражах, плоди иллюзии, но настанет срок – вынесет твою надежду на Мол действительности, трахнет о камень наждачный: только брызги во все стороны. И останется от надежды жировой несмываемое пятно.
Раз трахнет. Еще раз. И еще… Не впустую. Со значением скрытым. Чтобы след в жизни оставил. На каменной груди Мола действительности. Жировой след, живучий.
Что может быть живучее жировых пятен?
Одна отметина, вторая…
Точка, точка, запятая – вышла рожица кривая.
Таким продемонстрирует тебя Мол Действительности на всесветной выставке осуществленных мечтаний.
Смотрись в это зеркало. Думай, с кого писана рожица.
Точка слева… Да это же глаз, нацеленный на диплом кинематографиста.
Точка справа… Да это же второй глаз, нацеленный на сдачу кандидатского минимума.
Запятая… Многозначительная…
И промеж двух глаз.
Не ее ли стараниями рожица кривая?
Жизнь писала рожицу – не Леонардо.
А правда жизни – это правда искусства.
Две правды, а меж ними космический простор. Для того, чтобы витать в безвоздушном пространстве.
Не хочу! Я не космонавт! Верните меня на Землю с этих самых – будь они неладны! – заоблачных высот.
Но нет.
Нет и не будет твердой почвы под ногами, пока вместо лица – рожица.
Рожица – какое интеллигентное словцо. Что бы ему взамен?
Морду?
Морда – куда весомее! – хороший антипод для рожицы.
Рожица создана для насмешек. Морда - для битья.
***
Я устал от рожицы, перелицованной в морду. И вышел на ринг – тот самый, настоящий, где при четырех углах ищут пятый, где все Пифагоры, разве что без степеней.
Мне было тридцать три года. Время Иисуса Христа – время жизни, время смерти и воскресения.
Весил я семьдесят килограмм. При росте – один метр, шестьдесят три сантиметра. Какая превосходная приманка для атеросклероза!
Мои легкие были занавешены табачным дымом.
Сердце заворожено неосуществленными фантазиями – самыми благодатными удобрениями для микроинфаркта.
Череп расколот вдоль лобовой кости. И по сей день ощутим под кожей рубец заживленной трещины.
Позвоночник проколот хирургической иглой. Во имя пункции.
Все эти прелести висели на мне, как жернова на шее утопленника.
Я вышел на ринг, чтобы не утонуть в житейском море.
Жернов на шее, а под ним боевые перчатки.
Глупые Дон Кихоты двадцатого века. Сами себе мельницы. Сами себе рыцари Печального образа.
Глупые?
– С кого вы скопированы Дон Кихоты? Что вам нужно для отчаянной решимости?
– Ничего, кроме безумия, – отвечают Дон Кихоты.
– Что вам нужно, евреи, для Дон Кихотского безумия?
– Ничего, кроме отчаянной решимости, – отвечают евреи.
Пока у еврея есть хоть малейшая лазейка в какое-то проблематичное «завтра» – пусть уже не для себя, а только для детей – он будет далек от безумия. Весь свой ум он направит на то, чтобы подвести крепкий фундамент под воздушные замки «завтрашнего дня». Всю свою энергию он направит на то, чтобы возвести прочные воздушные стены. Воздух – самый благодатный строительный материал для еврея. Никогда за тысячелетия рассеяния он не был дефицитным. Бери его пригоршнями – созидай на века!
Отбери у еврея всю его древнейшую историю…
Он создаст новейшую, интернациональную.
Отбери у еврея всю его исторически сложившуюся культуру...
Он вольется в чужую.
Отбери у еврея полноценное счастье…
Он сумеет и из неполноценного построить милый сердцу мирок.
Но не смей отбирать у него воздух.
Польститесь на этот строительный материал, и он впадет в безумие. Превратится в Дон Кихота и начнет творить поступки с отчаянной решимостью.
А что ему еще остается, если он всего лишь еврей, а не былинный богатырь – не Илья Муромец, не Добрыня Никитич.
***
Я сын своего народа. У меня отняли все – вплоть до воздуха. Мне оставили только сальный жернов на шее, ибо еще не пришло время конфисковать и его – личное мое приобретение. И я с отчаянной решимостью впал в безумие.
- Бокс!
Что я мог противопоставить противнику – этому сальному жернову?
Сотню побед в прошлом? Но они ничем не отличны теперь от поражений.
Спортивные регалии? Звания чемпиона Латвии, Прибалтики? Но они занесены донным песком реки, впадающей в Лету?
Что? Ничего, кроме жажды жизни.
Сегодня получил вызов из Израиля. От папы и мамы и Арона и Ривы Гаммер.
И вышел на ринг.
***
Раунд первый…
Болетворные раны мне апперкот в солнечное сплетение.
Я валидол за щеку.
Отравленные легкие – по мне отдышкой.
Я в отместку – спурт.
Раунд второй…
Вздох жены, дожидающейся меня с тренировки в обнимку с аптечкой.
Мое – «обойдется!»
Обеспокоенные взгляды друзей: «Ты на себя непохож. Сдохнешь!»
«Выживу!»
Ехидные замечания поэтической братии: «Безумству храбрых поем мы славу!»
«Парнас российский дрязгами засеян!»
Раунд третий…
Но где мой противник? Нет его, растворился на брезентовом полу ринга. Бесследно.
Бесследно ли? Разве жировое пятно на тенте – не его след?
След. Однако…
Ладно, поживем – увидим. Не увидим, так услышим.
Слышу:
– Занялся боксом? Опять? Ну-ну! Значит, допекли, дальше некуда.
– В соревнованиях участвовал? В каком весе? Во втором полусреднем? Ого-го – 67 кг. И мозги не высыпали? Жив остался? Что? Выиграл? Что выиграл? Олимпиаду? Ври-ври, да не зави… Ах, заводскую… Тогда, конечно…
– Машешь все кулаками? Маши-маши, дуракам закон не писан! Выбьют тебе мозги, станешь как все. Нормальным станешь, без претензий и выкрутасов.
***
А время идет. Время жизни, время смерти и воскресения.
Два месяца назад я проводил родителей в Израиль.
Директор завода, на котором работал мой папа Арон Гаммер, рвал на себе волосы. Его завод – завод директора и моего папы, жестянщика Арона Гаммера, знаменитый на весь Союз опытный завод авиационной промышленной №85 ГВФ сорвал поставку продукции на Кубу.
Той самой продукции, которую от начала до конца изготовил мой отец собственными руками, полагая, что она еще требует доводки и усовершенствования, и поэтому будет в виде опытного образца представлена только на ВДНХ, без запуска в серию и последующей перепродажи.
Той самой продукции, которую не воспроизвести по записям технологов, надзирающих над изобретателем, создающим «из головы» – без чертежей – это чудо техники. Помимо записей нужны еще руки моего папы Арона Гаммера. А он теперь – иностранный специалист. Ему теперь доллары надо платить за работу, а не «зряплату».
Месяц и три недели назад меня вызвали в отдел кадров.
– Как же так? Вы, советский журналист, так сказать, золотой фонд нашей партии, как сказал товарищ Брежнев – Генеральный секретарь и Председатель Президиума…
– Я беспартийный, и никто в роду нашем никогда партийным не был.
– Тем более… Как же вы не разъяснили родителям? Не перевоспитали… Сквозь пальцы, так сказать, смотрели на их моральное разложение…
– Живы они, живы! И будут жить до 120!
– На чьи подачки? Сионистского лобби? Разве это не коварные происки? Разоблачите! Пригвоздите их к позорному столбу! Вот вам перо в руки. Гвоздите! Приравняйте перо к штыку, как просил Маяковский!
– Увольте меня от таких просьб.
И уволили. Насовсем. Из редакции. Из жизни. Из своего времени.
***
А время идет. Его не уволишь.
Время идет. По мне. Как рашпиль.
Сдирает с меня шкуру вместе с мясом. Под певучий аккомпанемент гонга.
Было семьдесят. Стало шестьдесят семь.
Были руки пухлыми, как витринно-несъедобные колбасы. Стали гибкими, как змеи. И в каждом кулаке по нокауту.
Было более сотни боев в прошлом. И все ныне ничем не отличные от поражений.
Стало всего пять боев. Но каждый весом в золотую медаль.
Первенство Рижского судоремонтного завода ММФ.
Спарринги, спарринги, спарринги.
Февраль – май. Минус десять килограммов лишнего веса. Плюс - совсем не лишнее - лошадиное здоровье.
Тренер Саукумс:
– Через неделю республиканские соревнования, первенство Центрального Совета спортобщества «Даугава». Выступишь?
– Да.
– Что ж, будем готовиться.
Парилка. Скакалка. Груша. Спарринг.
Тренер гонял меня на лапах, как надежду на лотерейное счастье. Бывший тяжеловес-нокаутер вынимал хрипучую душу из бывшего мухача-технаря. Бригадир такелажников Рижского судоремонтного завода ММФ, организатор боксерской секции, добряк с могучими бицепсами – Саукумс. Влюбился однажды и навсегда в бокс. И подобно всем остальным влюбленным мог говорить только на одну тему – о боксе. Меня он приветил поначалу разве лишь потому, что я был корреспондентом морской газеты, и нам было о чем потолковать, кроме интервью, вспомнить о былых встречах на ринге, именитых соперниках, триумфальных победах и обидных поражениях. Вспомнить о том времени, когда мы жили в боксе, а не ушли от него на тот свет. Я попросился в секцию. Перспектив никаких, но все же… Надежда юношей питает, даже если они великовозрастные «бородачи-возвращенцы». Саукумс не питал на мой счет никаких иллюзий. Однако, увидев, как с меня от тренировки к тренировке сползают жировые одежды, уверовал в невозможное – в воскресение с того света.
С чего начинается вера? С чуда.
***
Чудо первое…
Я лежал на сером тенте ринга, зная, мне уже не подняться. А если и подняться, то ради того, чтобы на носилках – в травмпункт.
«Все! Конец! Ребро сломано!»
Такой боли я не испытывал сроду. Казалось, стоит лишь пошевельнуться – и смерть.
– Боже! – докатилось до меня из глухонемого мира.
И боль ушла, чтобы вернуться после финального гонга.
А затем рентген и – «Прекратить тренировки. Трещина в ребре».
Я перетянул грудную клетку эластичным бинтом – туго, так, вероятно, упаковывают мумию.
– Бокс!
Чудо второе…
В рижском Стрелковом парке, под люминесцентным светом звезд, я вел бой с тенью, легко передвигаясь по аллейке, чтобы не повредить потревоженное ребро.
– Ишь ты, боксер. Посмотри на него, Вася. Борода как у Троцкого, а кулаками машет, будто мало его били.
– Мало тебя били? – деланно поинтересовался у меня Вася, пыхтя в лицо винным перегаром.
– Отойди. Мешаешь, - вздохнул я, понимая, что драки не миновать. Ох, как мне не хотелось драться в канун соревнований!
– Вася, «борода» нас обижает.
– А ну-кась.
И Вася своей рачьей клешней вознамерился заграбастать… Но до бородки не достал. Интуитивно я ушел в сторону и четко положил боковой слева на его бугристую скулу. И Вася тихо сполз под ноги дружбана, который в растерянности уже поблескивал стальным лезвием. Финка стрельнула в меня стремительным огнем и, оцарапав кожу, упала вместе с владельцем.
Я остался жив.
***
Мне нельзя было погибать. До срока. До чемпионата.
Афиши – «Первенство ЦС Даугава». Участвуют сильнейшие боксеры Латвии» – выманивали болельщиков в Дом спорта, расположенный у знаменитого городского канала на улице Вингротаю, 1.
Началось…
Вес полулегкий, 57 кг.
Сотня прошлых боев – не в счет. Нынешних боев – 5. Побед – 5.
Жеребьевка.
– На ринг вызываются…
Мой противник мастер спорта Кириллов, призер первенства профсоюзов СССР. Возраст – 25 лет, 87 боев, 79 побед.
В коридоре, идя к рингу, я мысленно представляю себе противника. Какой он? Высокий или коренастый? Как ведет бой?
– Вот он, – шепнул мне Саукумс.
Он сидел, расслабившись, в кресле, благосклонно взирал на снующего массажиста. Широкая грудь, покатые плечи, приглаженные вазелином брови. Он был в двух шагах от меня, но я был для него, как бы за горизонтом. Надо ли маститому присматриваться к новичку с пятью боями, да еще если этот новичок в пенсионном для спорта возрасте? Кириллов, и не глядя на меня, знал своим, выпестованным в турнирах знанием, что такое напускное равнодушие к предстоящей схватке должно парализовать меня, лишить воли к победе, выдуть из мышц моих силу..
Это он знал твердо.
Это знал твердо я.
Но этого не знали мои мышцы, заново «рожденные» в 1978 году, спустя более чем десятилетней отключки от бокса. Эти мышцы знали другое. Они знали, каково непроизвольно сжиматься в приемной отдела кадров, когда после очередного – «нет вакансий» - не разрядиться ударом по такому же напускному равнодушию. Мышцы знали, какой болью отдается в каждой клеточке тела нерастраченная сила, как тяжело тащить ее на погост несбывшихся надежд. Неподвластные разуму, они жили в ожидании гонга своей, особой жизнью, питая себя радостью предстоящей разрядки.
– Боксеры на центр ринга!
Вышли. Пожимаем друг другу руки. Ловим на себе взгляды болельщиков. Вернее, Кириллов, ловит, я вылавливаю. Кто будет болеть за «старика-бородоча», явившегося с того света, чтобы вернуться туда, в родную обитель с парочкой нокдаунов в зубах? Нет таких? Есть! Мой брат Боря Гаммер. Он будет болеть за меня, несмотря ни на что. Но болеть за меня – это оставаться в одиночестве среди переполненного зала. Это слышать – «бей бороду!» - и кричать до надрыва, прорезаясь сквозь гвалт, - «Фима! Фима-а-а!» Это быть против всех и верить до конца в то, во что по логике вещей верить немыслимо. Но Боря помнил меня в лучшие мои годы. А память такого рода – прочный фундамент для веры.
– Секунданты за ринг!
Боря медленно приподнимается на скамейке, напряженно вслушивается в тишину.
Гонг!
Теперь…
Мы – я и Кириллов – сближаемся, настороженно, вкрадчиво. По диагонали ринга. И весь-то путь – восемь шагов. Мне четыре. И ему четыре.
Раз, два, три… Четвертый шаг – в сторону и, перекрываясь левой, бью, резко, четко, правой в голову.
Старый мой прием, отлаженный. Если без промаха, то…
Не промахнулся! Угодил в самую точку.
И «поплыл» Кириллов, не понимая, по какому случаю сыплются на него удары «наглой бороды».
А «наглой бороде» надо вести бой расчетливо, чтобы не израсходоваться до срока.
Левой – по лбу и в корпус. Правой - по скуле.
Все! Нокдаун!
Упал Кириллов. Упал мне под ноги, в своем, красном углу.
Сейчас откроют счет. И передышка. Мне.
Но нет. Слишком невероятно, чтобы Кириллов – этот нокаутер с крепким, литым из мускулов телом – упал на брезент от кулака никому ныне не ведомого «старика».
И судья Зига Ясинский поднимает Кириллова, обтирает его перчатки о чемпионскую майку, дает знать болельщикам, что парень не в грогги, а… а… просто-напросто – что? – ах, поскользнулся, видите ли, он на «ледовом» покрытии ринга. Оттого и упал. Но мы не в хоккей играем. Упал? Поскользнулся? Мне все понятно. И брату моему Боре понятно. Он вскакивает, машет руками, кричит:
– Нокдаун!
– Стоп! – сдергивают его назад на скамейку болельщики моего противника. - Уймись!
– Нокдаун!
– Будет тебе нокдаун. Сейчас будет нокдаун. Твоему «бородачу». Костей не соберет. Кириллов, он знаешь какой, разозли его только…
Разозлить? Его? Куда уж больше.
Ринг не знает ничьих.
Кириллов практически не знает поражений.
Что остается мне?
Судья Зига Ясинский свел нас вновь в центре ринга.
– Бокс!
Кириллов, был зол, как смерть на человека.
Четыре года назад я разозлил смерть. Диагноз: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма.
Четыре года назад, пробыв в неподвижном состоянии почти месяц на больничной койке, я учился ходить заново, как младенец. Было это в августе 1974-го. И вот сегодня, в мае 1978-го, мне доказывать самому себе, что долго рядиться в «младенцы» я не имею право, если мне выпало жить.
Три месяца назад, в феврале, я надел боевые перчатки, чтобы, если мне выпало жить, вновь победить смерть, но теперь уже в виде физической немощи и духовной слабости. Мне надо было подготовить себя к репатриации в Израиль – в страну, которую в случае войны мне предстояло защищать с оружием в руках. Так что я победил смерть не для того, чтобы проигрывать Кириллову, будь он даже зол, как все черти, не заполучившие мою душу.
Злость Кириллова мечется по его глазам. И атака нижется на атаку. Перчатки мелькают, как увесистые гантели.
– Кириллов! Кириллов!
– Фима!
Хрип в легких, скользкий до свиста. Сухо в горле.
И вдруг замечаю, не достает вражья злость до меня, выжигает протуберанцами не грудь мою, не лицо – воздух. Как же так? Молодость за него. Сила за него. И реакция на удар… Реакция всегда лучше у молодых. Мне тридцать три. Я стар для бокса. Я… я… Последняя буква в алфавите. Что за меня? Память, закодированная в мышцах? Наверное, память…
Пять месяцев назад у моего отца Арона Гаммера спросили в Бресте. На таможне:
– Есть ли у вас с собой золото?
– Да, – ответил мой папа, углядевший подначку в обыденном вопросе советского служащего, задолбанного инструкциями и приказами. И показал обомлевшим таможенникам свои натруженные руки.
Выкормыши газетного петита, пожиратели штампованных фраз и мыслей пропустили его в Израиль с каким-то суеверным ужасом, вдруг, с внезапной ясностью осознав, что неприкосновенный запас СССР, самый оберегаемый и воспеваемый в песнях, открыто, без всяческих ухищрений, вывозится из страны. И его, как ни упорствуй, не конфискуешь. Поздно!
Папин «золотой запас» уже в Израиле. Мой – еще в риге. И я не жалея, делюсь им со своим соперником на ринге.
Левой в солнечное сплетение, правой апперкотом в подбородок.
Все! На этот раз все! Больше сил нет! Я же не отбойный молоток, хотя и ношу фамилию Гаммер.
Где Кириллов? На коленях. У канатов. Качает его. И все же он с трудом поднимается.
Поднимается? Что же это, право?
– Счет! Счет! – кричит мой брат.
Но счет судья и в этот раз не открывает.
***
И в третий раз Зига Ясинский не откроет счет…
Много раньше, лет за 17 до этого, когда судья был сопливым ребенком, я боксировал с его старшим братом Бруно Ясинским. Но разве должен он помнить соперников старшего брата? Разве должен он помнить тех, у кого учился мастерству? А если и помнит, что это меняет?
Я пришел сюда, на поле боксерского боя, из другого, полузабытого мира, где уже навечно распределены все регалии. О том мире позволительно ныне слагать легенды, приукрашивая былое, изымая из него неблагозвучные имена. Это мир мумий, своеобразный музей мадам Тиссо. Мумии могут лежать под музейно-стойким стеклом, могут стоять на постаментах, но ни в при каких обстоятельствах не должны оживать.
Мой судья ничем не лучше других. И не хуже. В прошлом отличный боксер. Как и его старший брат. Просто он жил в боксе в то время, когда я якобы уже умер для этого вида спорта. Поэтому и память его атрофирована на предшественников.
– Бокс!
И гонг.
Кончен раунд.
Секундант Саукумс усадил меня на стул. Сунул под майку мокрую губку. И зашептал, стряхивая с полотенца в лицо мое брызги. Он шептал порывисто, заглатывая слова, стремясь скорей – всего минута! – впихнуть в меня все известные ему секреты бокса.
Но какие секреты? Мне не до секретов. Мне и без них ясно: время жизни, смерти и воскресения, умри или победи.
Я начал свой боксерский марафон ради возвращения утраченного здоровья. Ни чемпионские титулы, ни медали меня не интересовали. Все это было в прошлом, теперь мне необходимо было обрести лишь себя – прежнего, вернуть его к жизни.
Галутный еврей, я довел себя до последней степени беспомощности. И когда, казалось бы, пришла пора обезножить под собственной тушей, задохнуться в жировых отложениях, вспомнил о том, что хочу жить. И переродился.
– Бокс!
И зал затих, еще не веря в меня, уже не веря в Кириллова.
Только один человек в зале знал, что победа будет за мной. Мой брат. Он знал это, и я это знал.
После третьего раунда я не дошел до своего – синего – угла. Обессиленный повис на канатах, слыша Борино - вибрирующее, как затухающий гонг:
– Я же говорил! У него в каждом кулаке по нокауту!
Мой секундант Саукумс вымахнул на ринг. Подхватил меня. Поднял под беспощадный свет многоламповой люстры.
– Чемпион!
Бывший тяжеловес поднял бывшего мухача, ныне полулегковеса. И долго стоял так, выпрямив над собой руки, будто победил он сам.
Через месяц, в июне 1978 года, было первенство Латвии.
Кириллов не вышел на ринг. Он бросил бокс.
Я остался в боксе.
Первый раз я взошел на Пьедестал почета чемпионата Латвии в 1962 году, последний раз в 1978.
Свой боксерский марафон в Риге я начал при весе в семьдесят килограмм. Согнал девятнадцать, выигрывая поэтапно соревнования различного ранга. Сначала во втором полусреднем – 67 кг. Потом в полулегком – 57 кг. Последний бой в Рижском дворце спорта я провел на первенстве Латвии в «мухе» – 51 кг
Что кормит надежду?
Если надежда беззуба, ее кормит душевная усталость.
С ложечки. Кровью.
Если надежда зубаста, ее кормит болезненное честолюбие.
С ножа. Огрызками сердца.
Моя надежда – зубасто-беззубая, с разбитой челюстью.
Я не умею проигрывать.
ГЛАВНОЕ НЕ ОПОЗДАТЬ
– Тук-тук!
– Кто там? Сто грамм?
– Перестук колёс!
– Поезд? Последний?
– Того и гляди! Не за горами Олимпиада-80. А затем…
– Дорогу перекроют?
– По всему видать. А то западники игнорируют московскую олимпиаду, а вы разъехались по разным странам, мало вам Израиля. Так что… Хватит тебе сидеть в пристанционном буфете, как в зале ожидания. Отдирай себя от стула и делай ноги.
– Ноги всегда при мне.
– Ну, так делай!
– Делаю!
И сделал.
Выскочил на перрон, догнал уходящий поезд, вскочил на подножку и был таков.
Каков?
Таков!
На парусах безоглядного времени,
по штурманской прокладке Ноя
доплываю до благодатного острова,
чтобы увидеть Древо познания.
Ветви его – своего рода антенны.
Направлены в космос,
впитывают информацию
из вселенского банка данных,
и насыщают ею плоды свои – яблоки,
дарующие познания добра и зла
каждому, кто…
Но кто способен распознать зло в добре?
И добро во зле?
Полнятся и тем и другим,
считая себя приравненными к богам.
И выходят к людям,
чтобы…
Как тут не вспомнить:
«Не сотвори себе кумира!»
Как тут не подумать:
«А если бы я?»
Спелое яблоко теплится в моей ладони.
Внешне похоже на Земной шар.
Так и хочется надкусить.
А что?
Вспомним детскую присказку:
«Ам-ам, вкусно нам!»
И…
Наступает прояснение.
"Наша улица” №271 (6) июнь 2022
Охраняется законом РФ об авторском праве
адрес
в интернете
(официальный сайт)
http://kuvaldn-nu.narod.ru/