Ефим Гаммер “Поезд возвратного времени:
пункт назначения - вечность" роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок
"наша улица" ежемесячный литературный журнал
основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.
Ефим Гаммер
ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ВЕЧНОСТЬ
роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок
Ефим Гаммер
©Yefim Gammer, 2022

Бабушка Ида и дедушка Аврум Вербовские со своей дочкой Софой и внуками - слева направо - Лёня, Сильва, Гриша, Софа, Фима. Рига, 1946 год.

Бабушка Сойба Гаммер, Рига, 1950-е годы.
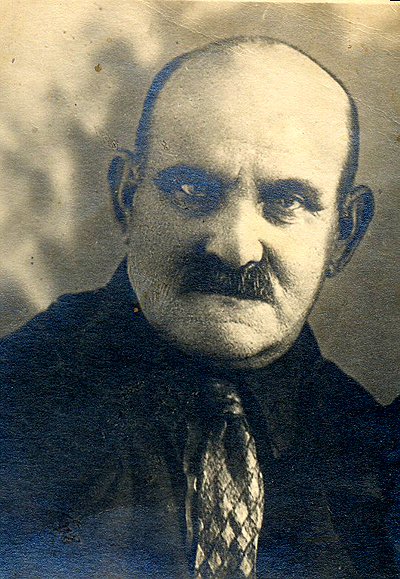
Дедушка Фроим Гаммер, Рига, 1950-е годы.
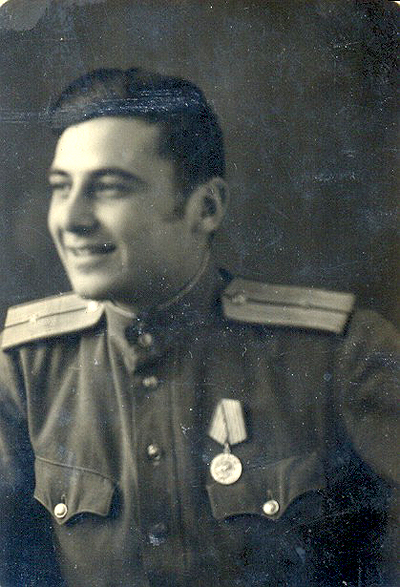
Моисей Герцензон, двоюродный брат автора,
с первой боевой наградой - медалью «За отвагу».
Эту фотографию он прислал с фронта
бабушке и дедушке Сойбе и Фроиму Гаммер.

Картина художника Моисея Маймона «Марраны (Тайный седер в Испании во времена инквизиции)», написана в 1893 году.
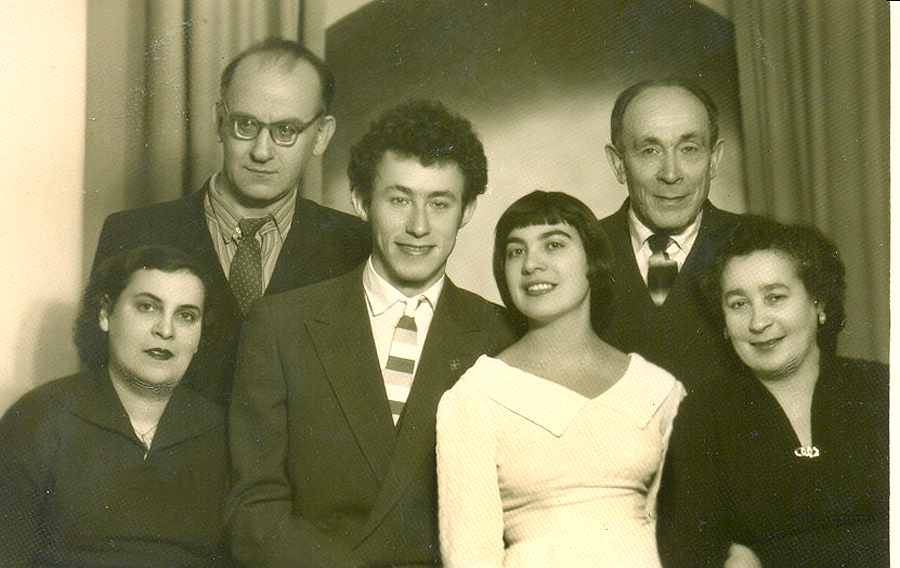
Свадебное фото: слева направо Рива и Арон Гаммер, новобрачные Майрум и Сильва, Файвиш и Берта (Белла) Аронес. Рига, 1960 год.

Диплом лауреата конкурса «Хвала Сонету».
ОБ АВТОРЕ
Ефим Аронович Гаммер - член правления международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» - радио «Голос Израиля» - «РЭКА», член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международных Союзов писателей, журналистов, художников - обладатель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии, в середине девяностых годов, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной Америке. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 29 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них - Бунинская, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Левша» премия имени Н.С. Лескова - 2019, имени М.В. Исаковского «Связь поколений» - 2021, премия имени Марка Твена - 2022, «Бриллиантовый Дюк» - 2018 и 2019, международного конкурса «Поэтический атлас 2021», «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом (золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. 2015 год - дипломант Германского международного конкурса «Лучшая книга года». Диплома удостоена документальная повесть «В прицеле - свастика», выпущенная в свет рижским издательством «Лиесма» в далеком 1974 году. Выходит, не только рукописи не горят, но и некоторые старые книги. В 2020-году удостоен международной премии имени Саши Чёрного и назван лучшим автором 2019 года по разделу «Проза» в российском журнале «Сура», по разделу «Художественная публицистика» в российском журнале «Приокские зори», на 6-ом международном поэтическом конкурсе «Россия, перед именем твоим…» удостоен 1 места и стал Победителем международного конкурса драматургов, проведенном в Санкт-Петербурге театром «ВелесО». Также занял 1 место в номинации Поэзия - на Всероссийском конкурсе «Чудеса делаются своими руками» имени Нины Николаевны Грин, стал победителем - 1 место - на международном конкурсе «Хвала сонету». лауреатом международной поэтической премии «Мое солнцестояние», лауреатом международного конкурса поэзии имени Игоря Царева «Пятая стихия» в номинации «Мое Подмосковье» и дипломантом международного литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина. В 2014 году занял 1 место на литературном конкурсе имени Лаврентия Загоскина «Вслед за путеводной звездой» в номинации «Проза». Кроме того, является старейшим действующим боксером нашей планеты. Вернувшись на ринг в 1998 году в возрасте 53 лет, выступал в боксерских турнирах до 70, тридцать раз подряд стал чемпионом Иерусалима. Занесен во всемирную книгу «КТО ЕСТЬ КТО» - московское издание. Живет в Иерусалиме. Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Наша улица» «Новый журнал», «Встречи», «Слово\Word», «Новый свет», «Наша улица», «Млечный путь», «Вестник Европы», «Кольцо А», «Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», «Мастерская», «Заметки по еврейской истории», «Побережье», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель», «Время и место», «Стрелец», «Венский литератор», «LiteraruS - Литературное слово», «За-За», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Байкал», «Нижний Новгород», «Сура», «Приокские зори», «Литературная Америка», «Фабрика литературы», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Новый Енисейский литератор», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дерибасовская - Ришельевская», «Мория», «Новый континент», «Кругозор», «Времена», «Наша Канада», «Витражи», «Огни над Бией», «Бийский вестник», «Новая реальность», «Знание - сила: фантастика», «Под небом единым», «Меценат и мир», «Дальний Восток», «Отчий край», «Филигрань», «Московский базар», «Экумена», «Наше поколение», «Белый ворон», «Перископ», «Русское литературное эхо», «Алеф», «Лехаим», «Мишпоха», «Наша молодёжь», «Паровозъ», «День литературы», «Русская жизнь», «Флорида», «Менестрель», «Земляки», «Алия», «Студия», «Метаморфозы», «Поэтоград», «Симбирск», ,«Жемчужина», «Антураж», и т.д.
Ефим Гаммер
© Ефим Гаммер, 2022
ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ВЕЧНОСТЬ
Роман ассоциаций
на основе очерков, эссе, рассказов и мемуарных зарисовок
ИСХОДНЫЙ КОД: ОДЕССА, ДАЛЬШЕ - ВЕСЬ МИР
2 сентября 1794 года основан город Одесса. С середины девятнадцатого века «Жемчужина у моря» стала родиной многих моих предков. От прадедов и прабабушек до родителей, и всех тех, кто появился на свет до эвакуации на Урал 1941 года во время войны. Начну с рассказа о дедушке Авруме и бабушке Иде Вербовских, родившемся там, в этом легендарном городе, «у самого синего моря».
Ефим Гаммер СМЕХ НАШЕЙ БОЛИ
Евреи - великие насмешники. Это укоренилось в нашем сознании. И мы смеемся взахлеб - до дребезжания голосовых связок. Смеемся удачной шутке, не задумываясь - над кем мы смеемся.
Над кем смеются евреи, когда не смеются над ними?
Евреи смеются сами над собой, над своей жизнью, над своими надеждами, над своей болью. Сами над собой, и их смех имеет привкус горечи.
Но разве фаршированная рыба сладка, если подать ее к столу без хрена?..
Мой дед Аврум родился в Одессе.
Мой дед Аврум вырос в Одессе, на Молдаванке, по соседству с Мишкой Япончиком. Они иногда встречались, говорили друг другу “здрасте вам”. И мой дед уходил от Мишки Япончика налегке, без сапог, в тапочках на босу ногу.
Не подумайте дурного. Мой дед Аврум торговал сапогами, а Мишка Япончик был его постоянный клиент, щедрый на шутку и револьверную пулю.
Мой дед был настоян на шутке, как одесская шутка на порохе. Но он не понимал юмора, обычного, без летального исхода. Это его и губило.
В пятнадцатом году он не понимал, почему это вдруг взятый им в плен немец оказался - перед допросом - евреем и взмолился к своему Богу - Богу моего деда - чтобы Он, Бог пленного и моего деда Аврума, покарал русского лазутчика.
Мой дед отказался допрашивать пленного. Он не хотел, чтобы Бог немецкого солдата иудейского вероисповедания покарал его “на службе Царю и Отечеству”.
Немецкого солдата иудейского вероисповедания допрашивал ради проникновения в военные тайны противника православный сослуживец моего деда Микола Баранюк. Но из-за незнания идиша ничего конкретного не выяснил. Разве что по подсказке Аврума уразумел, что закордонный агрессор хранит под сердцем фотографию оставленной в Германии жены Леи и двух народившихся отпрысков, которым сделал обрезание перед уходом на фронт.
Микола Баранюк не был антисемитом. Наоборот, он даже любил “жида”, если “жид” этот был его “жид”.
- Тебя, Аврум, я никогда не пустил бы в расход, - говорил моему деду Микола Баранюк, чистя свою трехлинейку. - Потому как ты жид мой. А немецкого жида я завсегда расстреляю в охотку. Потому как он жид вражий.
Мой дед по безысходности верил Миколе на слово и думал, что для него - жида своего полка - лучше грудь в крестах, чем голова в кустах.
В шестнадцатом году он не понимал, почему его, раненого в бою солдата, не желает лечить военфельдшер Приходько. Мой дед Аврум стоял перед ним в походном лазарете, держа на весу простреленную в локте руку. Боль накатывалась на него волнами и отступала вслед за огневым валом на поле боя, затихая после очередного залпа орудий. Ему, истекающему кровью, трудно было уразуметь меж обморочных приступов слабости, что военфельдшер Приходько не из его полка, и посему “гуляй, откуда пришел” - категорично, обжалованию не подлежит.
Мой дед не принимал дурацких шуток. Левой, невредимой рукой он схватил табуретку и обрушил ее на голову военфельдшера Приходько.
И они легли рядом, в обнимку, побратавшись кровью, чтобы потом по завершении наступательных операций, принять на госпитальных койках награды за ратные подвиги - из рук высочайшего начальства из царевой свиты.
В семнадцатом году мой дед Аврум не понимал, почему отныне его враги - не супостаты-немцы, а евреи, они же большевики. Он слушал речь какого-то поручика Мюллера, присланного для агитации из Петербурга, и никак не мог уловить связи между врагом внешним и врагом внутренним.
Внешнего врага мой дед знал в лицо с четырнадцатого года. Из своего винтаря он вылил ему ведро крови.
Внутреннего врага он не знал. О большевиках, правда, кое-что слышал. Из анекдотов. А что касается евреев, то хоть Меер Завец и обжулил его на толчке, все равно по вредности своей гадючьей он не шел ни в какое сравнение с немцем.
Три военных года подряд моему деду Авруму, призванному с одесского базара в действующую армию, внушали такую “любовь” к немцу, что его трехлинейка ни разу не дала осечки. И вдруг - нате вам - враг уже вовсе не дрянь-немец, а дрянь-еврей.
В мозгу моего деда никак не укладывалось, что он враг самому себе. Немцу - да! Себе? Боже упаси! Мюллер, митингующий перед толпой вооруженных солдат, был немец. Мой дед Аврум, вылавливающий на себе угрюмые, настороженные взгляды однополчан, был еврей. Из двух врагов - по закону войны - в живых остается тот, кто первым спустит курок. Мой дед Аврум спустил курок первым.
Три недели сидел он под замком, в ожидании расстрела. Он ждал смерти. А пришла советская власть.
Советская власть выпустила солдата из-под замка, чтобы он воткнул винтовку штыком в землю. Мой дед Аврум вернулся в Одессу - торговать сапогами. На толчке он встретил Меера Завца, и они помирились, чтобы рассориться вновь. Меер Завец, полномочный представитель новой власти, стал комиссаром торгового ряда и назвал моего деда “нетрудовым элементом”.
Мой дед Аврум не понимал таких словесных новшеств. Он продавал сапоги. И считал, что его семья живет на трудовые доходы.
Но Меер Завец сказал ему - “нетрудовой элемент”. И Меер Завец получил по зубам, чтобы щеголять согласно своей высокой должности золотой коронкой.
Меер Завец щеголял золотой коронкой и держал на моего деда большой здоровый зуб. Как-то раз он оцепил базар чекистами, чтобы лишить родную Одессу сапог, костюмов, зажигалок, самогонных аппаратов, презервативов, птичьего молока.
Оцепил и стал держать речь, чтобы заодно выглядеть порядочным человеком, способным оправдывать свои поступки.
- Одесское сообчество, - выложил он землякам, когда держал речь, - живёт без нужды до глупостей. Когда выйдет на потребу жизнь отдать за социализм, отдадим! Но - подумайте умом - чью? Имею сказать, не свою, а ту, что с начинкой вражины и с элементом вредительства по отношению к рабочему классу в насквозь гнилой душе. А что касается жизни своей... Без жизни своей, скажу как на духу, меня не допустят даже до толчка, рабочего места, где я получаю зарплату, и отправят прямиком в рай. Живи там и кушай нектар вместо жареных бычков из нашего моря. За бесплатно кушать я в полном согласии с совестью. Но разве я там дождусь, когда Гершль с улицы Средней вернет мне швейную машинку "Зингер", взятую всего на день, чтобы пошить себя пару приличных брюк?
- Дождешься! Дождешься! Иди уже в рай!
- Здрасте вам, граждане спекулянты! Я еще подежурю на этой земле. И перекрою вам все ходы и выходы с толчка наружу, где ходят люди с чистой совестью.
- И без лишней копейки в кармане!
- Не в деньгах счастье! - Меер Завец произнес самую неимоверную чушь, которую в Одессе можно было услышать разве что в сумасшедшем доме.
И все поняли: надо делать ноги. Сейчас начнут вынимать нервную систему и мастерить шмайс на роже самым неприличным способом, с помощью кулаков.
Мой дед Аврум вырос на толчке, как и Меер Завец. Мой дед Аврум тоже знал все ходы и выходы с базара. Меер Завец не лишил родную Одессу контрабандного товара. Но лишил себя второго зуба - того, большого, здорового, который держал на моего деда. С тех пор Меер Завец щеголял двумя золотыми коронками, а мой дед Аврум железными наручниками.
Советская власть поставила моего деда к стенке, чтобы он не распускал больше кулаки. Пока мой дед стоял, почесываясь, у стенки, белогвардейцы прорвали фронт. И советская власть скоропостижно постановила, что для моего деда будет лучше, если он встанет под пули врагов, а не под пули братьев по классу. Мой дед Аврум кликнул своих корешей с базара. Те кликнули дружков-налетчиков с Молдаванки. Налетчики - своих собутыльников, мелкотравчатую шантрапу с Бугаевки. Шантрапа кликнула всю голь перекатную из порта. И полк городской бедноты выступил на фронт, чтобы прикрыть дырку от бублика своими молодыми телами, пахнущими червонцами, водкой и нерастраченной на пустяки жизненной потенцией.
Полк городской бедноты прикрыл собой дырку от бублика и стал резаться в карты, ставя на кон жизнь обнаглевших белых офицеров, цена которой была копейка в базарный день.
Но белые офицеры, то ли прослышав о столь мизерных ставках, то ли боясь стыкнуться в рукопашной с налетчиками, заблудились в степях и не попали под ружейно-пулеметный огонь.
А полк городской бедноты, проигравшийся в пух и прах, снялся с фронта и пошел обратным порядком в Одессу на работу, чтобы вернуть друг другу карточный долг - если уже не жизнью обнаглевших белых офицеров, то чем-нибудь иным, равнозначным ей по стоимости.
Меер Завец собственноручно расстрелял командира и комиссара полка, бывших до принятия героической смерти ворами-рецидивистами. А когда он перезарядил пистолет, оказалось, что весь полк рассосался уже по толчку, портовым пивным и малинам, куда пулей не достать, если сам не хочешь быть ненароком убитым.
Меер Завец не хотел быть ненароком убитым. Он хотел дожить до светлого завтра, когда уже будет наконец построено общество справедливости, а в сортире, на улице Средней, где он родился и вырос, возведен золотой унитаз, символ достигнутого за счет равноправия всех трудящихся изобилия.
Но Меер Завец не дожил до торжества гуманистических идей, как и его предшественник с голым от умственного перенапряжения черепом, как и предшественник его предшественника, наделенный львиной шевелюрой.
И золотые коронки Меера Завца пошли на золотой унитаз для какого-то другого идеалиста с маузером, а сам он пошел в Соликакамск на лесоповал, куда до этого, осенью 40-го, сослал моего деда с одесского толчка.
Он повстречался с дедом моим на лагерной делянке, дающей 1000% подневольной выработки древесины. И сотоварищи-уголовнички, приветствуя такую закономерную встречу обвинителя с подследственным в местах не столь отдаленных, умело обрушили на них - евреи ведь! жиды! - подрубленное дерево.
У Меера Завца, раздавленного могучим стволом, была всего минута, чтобы, помолясь, тихо испустить дух, но он во весь голос изливал хулу на моего деда, называя его бандитом. И уголовнички засовестились в содеянном, признав инвалида мировой войны за своего, социально, так сказать, близкого - “даром что еврей, божий человек все же”. Несколько верст тащили его на волокуше по глубокому снегу, пока не добрели до лагерного медпункта, где к переломанной ноге старого солдата прибинтовали стопу задом наперед. Нога срослась неправильно. И он стал заново учиться ходить, чтобы искать правду. А так как его нога смотрела совсем не в ту сторону, то он делал шаг вперед, а два назад - точно, как советская власть, когда она училась ходить в соответствии с бессмертной работой Ленина. (Кто ее сегодня помнит?)
Естественно, что, хаживая таким образом, правду в концлагере он не нашел. И посему, за год до конца срока заключения, попросился добровольцем на фронт. Благо, война уже была в самом разгаре, причем со старым его знакомцем - с внешнем врагом. И на замену выбывшей из строя живой силы требовалась другая, пусть и полудохлая. Простреленной в первую мировую рукой дедушка писал заявление на вторую мировую, притоптывая от нетерпения изувеченной на лесоповале ногой. Просьбу его уважили. И изможденного от голода и болезней добровольца направили на медицинское освидетельствование. Однако врачам он не приглянулся. Калека. И вместо фронта, в награду за отчаянную решимость отдать жизнь за Родину и якобы, согласно надиктованной ему писуле, за Сталина, старому солдату скостили чуток срок, выправили путевое предписание на Урал, в Чкалов-Оренбург, и отправили на поиски эвакуированной из Одессы семьи. До искомого места, чуть не умерев с голоду, он и добрался весной 44-го года.
Где бывалый еврей, выросший у Самого Синего моря и проведший полжизни на толчке, ищет пропавших без вести родственников? Правильно! На базаре. По прибытии в Чкалов, дедушка Аврум заковылял на местный базар. И там спросил громко у озабоченного куплей-продажей люда:
- Я имею интерес узнать, если есть на этом базаре евреи из Одессы?
- Из Одессы? Есть тут евреи из Одессы! Я сам буду из Одессы, - откликнулся мой папа Арон, наигрывающий на трофейном аккордеоне фирмы “Хоннер” фрейлехсы собственного сочинения для развлечения задолбанной ценами рыночной публики (буханка хлеба - месячная зарплата). Вечерами и по выходным, после двухсменной работы жестянщиком на военном заводе, чтобы не помереть с голоду вместе с семьей своей и дедушки Аврума, он концертировал у торговых рядов и подрабатывал на жизнь музыкой. Впрочем, и до войны он работал на заводе, а по вечерам играл на танцах в парке имени Шевченко или выступал на эстрадных подмостках той же Одессы, или же Москвы, Баку, Кировобада, потом уже и Риги.
На следующий день после исторической встречи на городском рынке дедушка уже работал на папином 245-м авиационном заводе, который в 1945 году вместе с приписанным к нему крепостным народом ударников соцтруда был передислоцирован в Ригу, где стал называться “Завод №85 ГВФ”. Так мои одесситы стали рижанами.
В шестьдесятом году, живя в Риге, мой дед Аврум ввязался в последнюю свою торговую авантюру - на сей раз связанную с изготовлением сахарных вафель.
Какой-то проходимец загробастал все его накопления на приобретение оборудования, и хотел было смотать удочки. Когда же мой дед потребовал возврата своих капиталовложений, тот сказал, что вовсе незнаком с ним. Действительно, мой дед Аврум, иссушеннный в то время смертельной болезнью, не был похож на себя самого - прежнего.
Однако теперь, когда деду надо было собрать деньги на собственные похороны, он предпочитал быть узнанным и опознанным.
- Меня, положим, ты не узнаешь, - сказал он хитрому своему компаньону, - а вот его узнаешь? - Он ткнул мосластым пальцем в усатый профиль товарища Сталина на двадцатипятке. - За него мне предлагали отдать жизнь добровольно, если я хочу вырваться на фронт из лагеря. Я и согласился. Чем такая жизнь, так лучше ее отдать. Но моя жизнь осталась при мне, а его, наоборот, ушла из мундира на деньги. И теперь его жизнью... на деньгах... ты должен расплатиться со мной. Ты и расплатишься... А если не признаешь его на деньгах...
- Признаю-признаю, упокойничка. И для меня лучше, уважаемый рэб Вербовский, что не ты отдал жизнь за него, а он за тебя. К тому же так мудро, на деньги и сдачи не попросил.
В ожидании смерти дед не был настроен на шутливый тон.
- Значит, договорились, верни мне всех моих упокойничков в целости и сохранности или сам станешь смотреть на мир их стеклянными глазами.
Его компаньон вернул все. Частью деньгами, частью натурой. Ковром. Покрывалом. Велосипедом. И одним-единственным костюмом, сшитым из лучшего в мире материала - бостона.
Мой дед Аврум упокоился на еврейском кладбище, в рижской земле, далеко от незабвенной Одессы-мамы. Пусть земля ему будет пухом.
Но не советую кому-нибудь набивать этим пухом свои перины. Жестко спать будет на этих перинах.
ДРЕВНЯЯ ЕВРЕЙСКАЯ СКАЗКА
Аидыше маме... Эти слова в переводе не нуждаются.
На идише, русском, английском, французском, латышском, литовском, украинском звучат однозначно. Аидыше маме... И год, и другой, и третий, и десять лет спустя, и двадцать. Звучат... Звучат в нашем сознании, сопутствуя жизни, как необъяснимо чарующая музыка, пока аидыше маме не становится бабушкой. А аидыше маме всегда становится аидыше бобе - бабушкой, если на пути этого превращения не встретится с погромом или войной и не закроет грудью дитя свое от сабельного удара, от расстрельной пули.
Моя бабушка Ида - ровесница минувшего века. Родилась она 15 апреля 1900 года в Одессе, и первые семнадцать лет жизни провела под фамилией Гинзбург. Потом, убедясь что революциям не будет конца, вышла замуж сразу же после второй - Октябрьской. За отважного солдата Первой мировой Аврума Вербовского, вернувшегося с фронта после ранения на родной толчок (вещевой рынок), где не менее героически - вспомним о налетчиках и советской власти! - продавал вразнос сапоги.
И пошло - поехало...
Ида Вербовская стала бабушкой 13 мая 1938 года, в день когда появилась на свет моя старшая сестра Сильва. Мамой обозначила себя, конечно, намного раньше, за двадцать лет до этого, 4 декабря 1918-го, одарив мир вихрей враждебных, что веют над нами - мир паханов от Ленина-Сталина, до Петлюры-Махно-Котовского - своим сокровищем Ривочкой. Даже в то убойное время бабушка понимала, что старшей внучке, как впрочем и мне, тоже понадобится мама. А младшей внучке? А внучкам внучек? Поэтому от родильного дела не отказывалась. Старательно, на пятерку, рожала. До угара НЭПа. И после угара. До погибельного голода. И после.
Некогда, еще в 1981-ом, в пору всевластия СССР, когда диссидентским духом (хоти - не хоти, как бы невольно, по инерции, что ли) пропитывались наши тексты, в каком бы “изгнании” или “послании” мы ни находились, я начал очерк о бабушке Иде такми словами:
“Моя бабушка Ида живет себе, поживает, и не стареет.
Она старше товарища Брежнева. Но Брежневу за ней не угнаться, хотя за ним смотрят всякие-разные кудесницы из Грузии, где принято жить на вине, табаке и бараньем мясе, как у нас, до 120. За бабушкой Идой никто не присматривает. Это она присматривает за всеми. А на дворе 1981 год. И ей, вступившей в девятый десяток, надо присматривать за более чем десятком внуков. Одного из них - самого прозаседавшегося в женихах - выдать замуж за какую-нибудь свою подружку. Другого - еще юного, непутевого, определить в музыкальную академию, или, на худой конец, в технион. Третьего, всегда голодного, - накормить до отвалу, налив ему для аппетиту, как некогда дедушке Авруму, полный стаканчик белоголовой. Четвертому, языкастому, с вечным пером вместо сердца, растолковать все известные ей секреты семейного счастья. Пятому, щеголяющему в обносках с чужого плеча, сшить наощупь приличный костюм, в котором можно хоть в лорды. Шестому, выбивающему из триодов прибавочную стоимость, внушить, что пора, брат, пора уже мир повидать. Седьмому...
А какая у нее работа с правнуками! Этот хочет жениться, тот тщится изобрести вечный двигатель.
Моя бабушка Ида старела вместе с Брежневым. До шестидесяти лет. Последующие двадцать с лишним она не стареет. Не имеет права. У нее еще столько дел на Земле, что она и по сей день удивляется: “Как же это я возьму и помру? Вас на кого оставлю?”
Неизвестно, на кого она оставит нас. И более того, неизвестно, что станет с нами, не будь бабушки Иды...”
Этими словами, с налетом диссидентской язвительности, характерной для забронзовелой эпохи Брежнева, я начал свой очерк о бабушке Иде. “Этими же словами”, вернее, в том же духе и продолжаю его... В пору, когда вечная “аидыше маме” по-прежнему в переводах не нуждается, а эпоха Брежнева гукнула в “застой” и превратилась из дитя нашей памяти в исторического монстра...
...Без товарища Брежнева мы, вроде, живем, и неплохо.
Без бабушки Иды... Не знаю.
Моя бабушка Ида жила в Риге напротив ломбарда. Ее квартира была почти пуста - все вещи лежали в ломбарде, годами.
Ее квартира была всегда набита детскими голосами.
Дочки моей древней бабушки Иды любили рожать.
...Мы пошли в первый класс в сшитых бабушкой Идой костюмчиках.
Мы пошли во второй класс в сшитых бабушкой Идой курточках.
Мы пошли в третий класс в сшитых бабушкой Идой кителях.
А потом нам запретили сидеть за партой в самодельной одежде, только в спецформе, чтобы центральному универмагу (рижскому “Асопторгу”) было на чем делать деньги.
И бабушка Ида отнесла в ломбард все сшитые ею одежды - на меня, на моих братьев и сестер, на моих тетушек и дядюшек. И на вырученные деньги купила нам школьную форму, которая, конечно же, не продержалась вечность на наших все пожирающих костях. И бабушка Ида стала шить заплаты вместо костюмов, лишь бы ее внуки выглядели как люди в приличном обществе сорви-голов Старой Риги, где Ленечка однажды, возвращаясь из первого класса 67-й семилетней школы, провозгласил на всю улицу Калею: “Бабушка! У меня пятерка! Я получил две двойки и одну единицу!”
Бабушка Ида чуть не умерла со стыда. Потому что регулярно ходила на операции. Не подумайте, что она была хирургической медсестрой. Хирургической медсестрой она не была. Она была просто бабушкой. Бабушкой оперируемой. В этом случае - пациенткой. Советская бесплатная медицина почему-то очень любила копаться в ее внутренностях, как будто там спрятан клад. Но там ничего спрятано не было, кроме обычных “цурес”, которые можно было увидеть среди морщин и на ее лице, не роясь в животике.
Бабушку Иду десять раз доставали с того свету, пока она жила в Риге. Десять раз - по числу внуков. Она перенесла десять операций, и сердце ее не сдало. Она любила шутить: “Если мое сердце выдерживало этого уголовного элемента Аврумкуле с винтовкой и пулями - (моего дедушку) - то что ему операции с пустым ножиком”. И она была права. Дед Аврум со дня свадьбы портил ей жизнь и нервы.
На свадьбу он приволок Мишку Япончика со всей его молдаванской шпаной. И гости стали молча отстегивать браслетки, снимать кольца, вытаскивать бумажники. Прикрываясь от застенчивости розовой краской, они выкладывали свои богатства на стол, рядом с фаршированной рыбой. Бабушка не была бандершей, она была из культурной семьи, портниха с вывеской “Модельный дом Гинзбург, шьем на дому”. И пережить такой позор по части недвусмысленного грабежа ее гостей она могла только в могиле.
- Миша, - сказала бабушка Ида, держа вилку на манер ножа. - Ты хочешь лишить моего Аврумкуле жизни?
- Бог с вами, мадам Вербовская! - возмутился Мишка Япончик. - Я не имею интереса к червонцам ваших друзей и собутыльников. Чтоб мне с места не сойти, если у меня дурные намерения и я вру вам прямо в глаза!
- Ах, значит ты не на работе? - обрадовалась бабушка Ида.
- Скажете, тоже, - взопрел от обиды Мишка Япончик. - Мы по субботам не работаем. Евреи мы с Одессы-мамы правильные, не босяки задрыпанные.
- В таком случае, уважаемый Миша, ты мой почетный гость. Садись со мной рядом, по левую руку. А пистолетик свой...
И Мишка Япончик сделал все, как велела бабушка Ида. Сдал ей на хранение свой пистолетик, а следом за ним сдали моей бабушке все свое оружие и его компаньоны. Бабушка спрятала все эти самовзводы под подушку, в спальне. И провела на них брачную ночь, слыша за стеной - к великому удовольствию - пьяные крики, но не выстрелы.
С тех пор у нее завелась такая привычка: прятать все под подушку. Наши рогатки, наши пугачи и даже никелированный вальтер, который я выменял на неразорвавшийся снаряд, покоились у нее под подушкой, до самого отъезда в Израиль.
Не будь бабушки Иды, сколько вооруженных конфликтов состоялось бы у нас во дворе.
Но бабушка стояла на страже мира. Не ради Нобелевской премии. Ради сохранности наших носов и ребер. Целостности не столько рубежей необъятной советской родины, сколько наших рубашек, брюк и ботинок.
Верность миру была у нее в крови. С незапамятных времен. С первой, поди, мировой войны, когда женишок ее, не супруг еще, Аврум Вербовский добровольцем, восемнадцати лет от роду, пошел за Царя и Отечество на супостата немца.
Бабушка Ида, будучи еще всего лишь невестой, говорила отчаянному добровольцу такие слова: “Аврумкеле, - говорила ему, - ты там поменьше метко стреляй. А то я тебя знаю. Чем больше ты метко стреляешь, тем меньше здоровых людей на нашей бедной земле”.
Но дед Аврум не слушал бабушку Иду даже в жениховский, весенний период своей неистощимой на ранения, увечья и неприятности жизни. Он стрелял много. И стрелял метко. Не из баловства. А по той простой причине, что Царем и Отечеством были ему, восемнадцатилетнему добровольцу, обещаны, останься он в живых, определенные льготы. Благодаря которым он, еврей - участник войны, мог получить финансовую поддержку и открыть свою торговую точку прямо в сердце Одессы - на Привозе, воспетом классиками литературы. И подняться на ступеньку выше по иерархической лестнице толчка и его торгового люда. Но война бесславно закончилась, одарив дедушку Аврума ранениями. А затем пришла советская власть, которая ранения оставила при дедушке, а льготы его похерила без стеснения.
Что оставалось? Жить? Если это можно назвать жизнью, значит - жить! И он жил. И давал жить другим. Другим он давал жить, а бабушке Иде давал жизни.
Дед Аврум давал бабушке Иде жизни. То он на войне, то он на толчке, то он в тюрьме, то он в концлагере. А в перерывах устраивал такой дебош, что даже Мишка Япончик говорил ему “Ша!” Но какое “ша”, когда пришли описывать вещи, раз он - нетрудовой элемент. Его вещи - это бабушкина швейная машина “Зингер”, дощатый шкаф, двуспальная кровать и с полмиллиона “прусаков”, ибо Одесса без тараканов, что памятник Ришелье без Приморского бульвара. Дедушка Аврум спустил несчастного”описывателя” с лестниц, а потом скрывался от советской власти, пока бабушка не столковалась с ней, отдав впридачу к перечисленным вещам и свою золотую цепочку - подарок от первого ее жениха, уродившегося таким дураком, что помер в Одессе с голоду, вместо того, чтобы жить припеваючи в Рио де Жанейро, куда метил Остап Бендер.
Этот жених влюбился в мою бабушку Иду по фотокарточке, присланной ему в благословенную заграницу, когда он катался по этой загранице, как сыр в масле. Когда катаешься как сыр в масле, голова всегда полна дурацких мыслей. Вот под воздействием этих дурацких мыслей влюбился безответственный фантазер из Латинской Америки в фотокарточку. И когда? В самый подходящий исторический момент. Поднеси к этому моменту спичку, и... Но что взять с больного, если он, этот жених, вбил себе в свою дурную голову, что он должен обязательно жениться на одесситке. И он помчался из Рио де Жанейро в Одессу, на свою историческую родину.
Надо отдать должное этому идиоту. Сначала он хотел вызвать бабушку Иду к себе, на свою шикарную виллу, где ходил в белых брюках и с золотыми побрякушками на волосатой груди. Но бабушка Ида, получив вызов за полста лет до того, как выехала в Израиль, сказала с девичьей горячностью, что из Одессы она ни ногой - здесь ее самое синее море, здесь ее самое голубое небо, здесь родилась, здесь и помрет.
И этот идиот из Рио де Жанейро приехал к ней в Одессу, чтобы своротить ее с истинного пути.
Когда он ко мне сватался и пел свои любовные серенады, вспоминала бабушка Ида, я у него спросила: “Почему вы уже, возвернувшись в Одессу, не Сидур, а Сидоренко?”
Он отвечал: “Украинцем быть очень на слух музыкально. Фамилия одна, а в ней сразу целых три ноты - октава! Проверьте на рояле, пожалуйста. Си - до - ре.”
“Почему же вы, в этом музыкальном случае, не Доремисилян? - поинтересовалась я, рассказывала мне бабушка, пряча хитринку в глазах . - До - ре - ми - си- ля - н! - нате вам, сразу не три - целых пять нот, почти весь нотный стан, а октава одна.”
Он скучно улыбнулся, вспоминала бабушка Ида, и сказал: “В нотах вы, Идочка, не ошибаетесь. Вы ошибаетесь в другом: быть армянином - это меньше музыкально, чем написано в их фамилии. Это быть как еврей при убийстве царя Александра и думать о погроме. Но не надо думать о погроме. Это вам не к лицу. Вам к лицу будет эта золотая цепочка. Примите ее в подарок и носите с удовольствием.”
Так, с многочисленными экивоками в сторону разных национальностей, заморский гость, как змей-искуситель, всучил Джульетте с Молдаванки золотую цепочку, которую не снял с нее даже Мишка Япончик - из уважения к бабушке Иде с улицы Средней.
Бабушка Ида ответила на подарок своим вежливым “спасибочки вам” и напомнила бразильскому ухажеру, этому идиоту в жилетке, что без “испытания чувств” не обойтись. Свое решение она скажет после.
Но какое “после”, когда уже шарахнули по Фердинанду в Сараево? Какое “после”, когда Царь и Отечество обещают евреям льготы, если они добровольно кинутся на войну? Какое “после”, когда дедушка Аврум уже прослышал про льготы, выстроил в уме магазин по продаже обуви на Привозе, сделал на скоростях бабушке предложение руки и сердца, и помчался как ошпаренный на добычу Георгиевских крестов. Какое, действительно, “после”?..
Но из песни слова не выкинешь. Так что не будем скрывать: в ходе этой еврейской серенады про любовь между аидыше маме и заокеанским идальго-поклонником бабушка Ида вбила в сердце своего Ромео столь сокрушительный гвоздь, что он, разбитый вдребезги, согласился ждать до лучших времен.
А какие они, лучшие, когда на подходе возвращение дедушки Аврума с фронта? И какие они, лучшие, когда на горизонте свадьба дедушки с бабушкой? “Лучшие времена”... Ха-ха вам, с присыпочкой! Советские времена - да, кушайте. А лучшие?..
Какие “лучшие времена” при советской власти? Если не голод, так война. Если не война, так голод. И этот идиот с золотыми перстнями и браслетками дождался своего - крупного голода. Такого, что все его золотые зубы пошли в товарно-денежный оборот. Как и браслетки, и перстни.
Бабушка Ида очень переживала, что заморский господин, превращенный насильно в “товарища”, помер с голоду, когда рвал зубами на обледенелой мостовой прочный, как наковальня, замороженный труп лошади.
Бабушка Ида плакала на его похоронах, будто он унес с собой кусок родной Одессы. Ей было жалко человека, хоть он был и большой идиот - приехал к советской власти за счастьем.
Бабушка не могла быть великодушнее советской власти - совесть не позволяла. Если советская власть не дала ему счастья, как же она смела превзойти родную власть. Да и кто способен превзойти ее ухищрения? Особенно в пору чудовищного голода на Украине. В пору, когда не выцедить ни капли молока для своего младенца. Который так и умер у ее груди - с голоду.
“У меня был один всего леденец - монпасье, - рассказывала мне, плача, бабушка. - Я думала: скушаю эту конфетку и у меня пойдет молоко. Но молоко не пошло. И он умер с голоду. Может быть, надо было дать ему эту ледышку? Но он бы ее не проглотил. Задохнулся. Маленький был, еще совсем маленький”.
Всю жизнь она мучилась этим: ожил бы ее сынишка или нет, если бы впихнула она в его безвольный рот живительную, как ей представлялось, конфетку.
Мучилась своей мыслью, страдала. А поминая замученного одесской бескормицей жениха из Рио, подталкивала всех нас, детей и внуков своих, к очень нехитрой словесной конструкции: а уедь она с этим идиотом в его кофейные кущи, не было бы семейного счастья у дедушки Аврума, да и всех нас - со счастьем или без оного - тоже не было бы.
А вот спроси у бабушки Иды, почему она все же не уехала, она спокойно, с мудрой улыбкой ответила бы: “А на кого бы я вас оставила. Что без меня Рива или Софа, детки мои? Похоронили бы вы на еврейском кладбище Бебу, дочку мою, умершую в девичьем возрасте, 24 лет от роду? А кто бы вырастил Гришеньку и Ленечку, бедных моих сиротинушек? А что бы стало с тобой? Стал бы ты чемпионом по боксу? Закончил бы ВУЗ? А Боренька... Поступил бы он в музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня, если бы не я? Эх, много вы понимаете...”
А ведь мы на самом деле понимали меньше бабушки Иды.
Бабушка Ида перенесла десять операций в Риге. А после одиннадцатой, когда почти ослепла, сказала: “Я еду в Израиль! Аврумка всю жизнь мечтал про Израиль, а попал на тот свет. Я всю жизнь гляжу одним глазом на тот свет, а вторым вижу Израиль”.
- Бабушка, на кого ты нас покидаешь?
- На советскую власть, на товарища Брежнева. Он не может присмотреть за одним своим сыном-алкоголиком. Посмотрим, что станется с вами, когда я перепоручу ему присматривать за всеми моими внуками.
Бабушка Ида перепоручила Брежневу присмотр за своими внуками и, полив слезами каменное надгробие дедушки Аврума, села в скорый поезд.
Таможенники ее не досматривали. Они сразу поняли, что бабушку долгие годы досматривал ломбард, а также хирурги и акушерки.
У бабушки Иды ничего не было с собой, кроме семидесяти с лишним лет и десятка швов от скальпеля на пергаментной коже.
Ей нечего было бояться - она получала всего семь рублей 50 копеек в месяц - пенсию по старости лет, на какую можно было по тем временам купить две бутылки водки за три ноль семь и половину кислого огурца.
Бабушка Ида поставила перед таможенниками бутылку водки, положила нарезанный вдоль и поперек маринованный огурец. И сказала, как некогда на своей свадьбе: “Угощайтесь. Надо же чем-то заняться, когда делать нечего”. Таможенники посмотрели в ее ясные глаза, и прочли в них неведомую загадку, ответ на которую бабушка Ида дала им тут же: “Вот вы смотрите на меня и недоумеваете - откуда я такая взялась? В газетах обо мне не писали, в стихах меня не превозносили, мои портреты никто не вывешивал на Доску Почета. И видите, ничего со мной не случилось. Не умерла. Живу. Какого черта несет меня в Израиль? Да чтобы жить дальше. Хотите жить - поехали вместе”.
Но таможенники не поехали вместе с бабушкой Идой. Очевидно, жить они уже не хотели. Они остались у своего длинного, как гробовая крышка, стола, у початой бутылки водки и маринованного огурца. Куда им бежать от своего изобилия!
А бабушка Ида приехала в Израиль. А бабушка Ида, полуслепая, стала шить для швейной фабрики вещички на своей допотопной машинке “Зингер”. И начала посылать внукам, оставленным на товарища Брежнева, посылки, чтобы они побыстрее выкупили у советской власти свое высшее образование и унесли ноги из затрапезной обыденности в древнюю еврейскую сказку про “аидыше маме” - к бабушке Иде.
В Кирьят-Гате, куда, унеся ноги от советской власти, я заезжал регулярно - проведать родителей и многочисленных родственников, - бабушка Ида нередко встречала меня неожиданными, странными для непосвященного в таинства былой жизни словами: “Фима, ты мог т а м писать о ком-то из своих? Ты писал там обо всех. Но написал ли ты о своей маме, о своем папе, о сестре или брате? Разве нельзя было написать о них - не говорю, роман - очерк, а?”
- Не печатали... Пиши - не пиши...
- Мы прожили т а м огромную жизнь, одну за две, за три, а вот писать о нас было нельзя... Почему? Почему мы не заслужили доброго слова?
Я молчал. Что тут ответишь?
Разве что...
Однажды собкор “Учительской газеты” Владимир Курмаев попросил у меня очерк о заслуженной учительнице Латвии. Ну, я и предложил написать о всеми любимой учительнице, заслуженной не только по званию - о Басе Абрамовне Перельмуттер. Ох, как Володя заволновался. Ох, как замахал руками. Нет! Нет! Нет!!! Москва “зарежет”. Не коренной она национальности.
- Фима, ты в долгу перед нами, - продолжала бабушка Ида, вырывая меня из гнетущих воспоминаний. - Мы дали тебе жизнь. Жизнь твоя не отделима от нашей. Если ты не поймешь нашей жизни, не поймешь и своей. Пиши о нас. Поймешь себя. И проживешь не напрасно. Будешь жить вместе с нами - вечно.
“Вечно...” И вдогонку за этим “вечно” вопрос:
- Ты уже написал обо мне?
- Еще нет...
- Торопись, Фима! - бабушка Ида укоризненно погрозила мне пальцем с нанизанным на него наперстком. - Пиши, а то будет поздно. Я хочу при жизни прочитать о себе.
При жизни бабушки Иды я и написал эту “Древнюю еврейскую сказку”. При жизни бабушки Иды и опубликовал ее в газете “Наша страна”. При жизни бабушка Ида и прочитала его. А потом, улыбнувшись чему-то потаенному, спросила:
- А о маме своей ты написал?
- О маме?
“...Моя мама Рива пошла в бабушку Иду. Как и у бабушки Иды, у нее умер второй ребенок, в младенческом возврасте. У бабушки - мальчик, в 1922г., во время голода на Украине. У мамы - девочка, Эммочка, в 1944г., во время войны. В эвакуации. На Урале. За год до моего рождения. А в 1947г., когда умерла в Риге, после родов, ее младшая сестра Беба, мама Рива выкормила своей грудью ее новорожденного сына Ленечку, который стал мне заодно не только двоюродным, но и молочным братом...”
Такое начало рассказа о моей маме Риве прочел я тогда бабушке Иде, памятуя о живительной силе жизни во все времена. И добавил: “продолжение следует”.
Итак...
ЖИЗНЬ ПИШЕТ НАБЕЛО
1
22 июня 2016 года, в день 75-летия начала войны с фашистами, мою маму Риву доставили на скорой помощи в ашкелонскую больницу «Барзелай». Я с сестрой Сильвой были последними, кто застал её ещё живой. Она умерла 23 июня в 18. 40.
Часы живых, прошу,
с часами мёртвых сверьте.
И вслушайтесь, и вслушайтесь
в их слитное звучанье.
Что ж, остается вслушиваться. И вглядываться. А сверяя часы живых с часами мёртвых, волей-неволей вернёшься в то время, когда никто не думал о скоротечности жизни, и вольно чувствовал себя в настоящем, не догадываясь, что оно стремительно превращается в прошлое.
Но какое это прошлое, если разразилась шестидневная война и каждая еврейская семья внезапно заразилась Израилем? Какое прошлое, если старшая дочка Сильва с мужем и детьми подала документы на выезд на историческую родину? Какое прошлое, если и она сама, моя мама Рива, дождавшись выхода на пенсию мужа, тоже устремилась в Израиль. Какое прошлое, когда это наше настоящее!
Мне же и брату Боре выбраться из Союза нерушимых республик по вызову сестры Сильвы советская власть не разрешала, пока не получим вызов по «прямому родству» - проникнетесь этой казуистикой! - не от родной сестры, а от родителей. Посему мама выехала раньше, чтобы не подрывать интересы страны, в которой родилась, выросла, получила медицинское образование и носила передачи своему папе в одесский ДОПР до его отправки из тюремной камеры в концлагерь. А затем война. Эвакуация. Работа в две смены на авиационном заводе №245 в Чкалове (Оренбурге) на Урале. Холод и голод. Направление на лесоповал, куда по логике убойного времени решено было отправить работающих на заводе женщин. Но не отправили. Женщины сообразили, чем для них может закончиться работа в лесу и житье в бараках под присмотром бригадиров-уголовников, разумеется, не женского пола, и разом забеременели. Все. Оттого я вырос в заводском доме, уже в Риге, куда передислоцировали после войны наше предприятие. В 15 лет меня взяли на работу в бригаду жестянщиков моего папы. И давай вкалывать, попутно став чемпионом Латвии по боксу и поступив в институт, откуда ушел в армию, чтобы по возвращению, соскучившись по маме, написать в день её рождения:
Мама, вот и сорок восемь.
Годы возраст теребят.
В бабье лето, а не в осень,
Время занесло тебя.
- Зачем про бабье лето? - смеялась мама. - Мне больше по нраву весна. Пиши про неё.
- Какая же у тебя была весна? Как мне знать?
- А ты пиши. И - увидишь - напишется.
Как бы это ни звучало парадоксально, но она была права. Написалось.
Что же получилось? А вот что!
В незапамятном году, когда юная Рива Вербовская закончила Одесский медицинский техникум и обзавелась дипломом, к ней на приём в поликлинику пришел за уколом знаменитый баянист Арон Гаммер, играющий на концертах и танцах в парке Шевченко. Укол был настолько удачным, что Арон Гаммер пригласил Риву Вербовскую в ЗАГС. И что? Она таки согласилась. А почему бы и впрямь не расписаться, если любовь, как поет Утесов, «нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждут».
Любовь нагрянула, они расписались, и Арон Гаммер стал не только музицировать в парке Шевченко, но и петь куплеты собственного изготовления:
В понедельник я влюбился,
Вторник я страдал.
В среду с нею объяснился,
А в четверг ответа ждал.
В пятницу пришло решенье,
А в субботу разрешенье.
В воскресенья свадьбу я сыграл.
Свадьба пела и плясала, как это принято в Одессе. В том же доме на улице Средней, где когда-то мама Ривы Вербовской выходила замуж за ее папу - Ида Гинзбург за Аврума Вербовского, героя и инвалида Первой мировой войны. На той свадьбе 1917 года, проходящей под аккомпанемент залпов «Авроры», гулял король Молдаванки Мишка Япончик.
На свадьбе Ривы, теперь уже Гаммер, гуляли другие звезды Одесского неба, больше имеющие отношение к искусству, чем к налётам. На столе было не так, чтобы очень. Но и не так, чтобы ничего. И картошечка, и селедочка, и выпить, и добавить под «горько». И надежды, что юношей питают. Одна из таких питательных надежд квартировала в Москве, где на студии грамзаписи предполагали издать пластинку фрейлехсов Арона Гаммера. Вторая, подобно бессонной кошке, гуляла по оцинкованной крыше Первого Артиллерийского училища. Почему? Эта загадка легко разрешима, если прикинуть, как Арон Гаммер, представляясь гостям со стороны невесты, говорил:
- Я закончил Первое Одесское артиллерийское училище.
- О! - отвечали гости на доступном разумению языке восхищения и искали на отвороте пиджака Арона петлицы, а в них лейтенантские кубари. Искали чего-то хорошего, как это принято в Одессе, и не находили, что тоже присуще городу Соньки - Золотой ручки.
Бедные на воображение, они не догадывались, что Арон - известный для них в качестве музыканта, композитора сочинителя стихов, был заодно и потомственным жестянщиком - сыном великого мастера кровельных работ Фроима Гаммера. Вот в качестве кровельщика и закончил он военное училище, то бишь, в переводе с одесского на русский, закончил крыть крышу военного училища, за что и получил похвальную грамоту от армейского комиссара 1 ранга Яна Борисовича Гамарника (настоящее имя-отчество Яков Пудикович).
Сильва родилась, как это принято в Одессе, через девять месяцев после свадьбы. Подсчитать это легко на пальцах. Ходили в ЗАГС 1 августа 1937 года, а в родилку 13 мая 1938. Радости было много, света прибавилось в небе и воды в Черном море. Так что на радостях Сильвочка росла не по дням, а по часам, словно предчувствуя, что вскоре разразится война, и уже, кроме голода и холода, не будет никаких достойных приобретений.
Бомбежки. Одесса на колесах. Эвакуация. Бесконечные перегоны. Южный Урал.
В первый класс Сильвочка пошла в Чкалове, так назывался в ту пору Оренбург - родина «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. Портфель ее разбухал от пятерок, переполнявших тетради по чистописанию, и мама Рива смотрела на малюсенькую дочку с удовольствием, полагая, что Сильвочка тоже поступит в медицинский техникум и станет дипломированной медсестрой, а то и врачом. Лично ей, по вине обстоятельств, пришлось отказаться от продвижения по медицинской стези. Война шла не только на фронте, но и в тылу, и для разгрома врага страна потребовала переквалифицироваться из медсестер в жестянщики, что Рива Гаммер и успешно сделала. Благо под боком - в прямом и переносном смысле - находился ее муж Арон Гаммер. В данный исторический момент он возглавлял бригаду жестянщиков, которая вкалывала в три смены на 245-ом авиационном заводе, изготовляя подогревы для бомбардировщиков дальнего следования, утюживших крыши Берлина.
Подогревы были личным изобретением Арона Гаммера, и это радовало Риву, так как на бригаду полагалась в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла, не давая сдохнуть с голода. Словом, набирались сил для трудовых рекордов. И что? Думаете, не ставили их? Ставили, и еще как, выполняя на триста процентов производственные нормы. Рива при этом успела и забеременеть. Раз, потом второй раз. Сначала она родила Эммочку. Но Эммочка, так и не дождавшись, когда её отлучат от груди, чтобы жить впроголодь на «хлебных карточках», умерла от воспаления легких. И тем самым выправила для меня вакансию. Я не задержался и появился на свет в ночь начала штурма Берлина 16 апреля 1945 года, ровно в тот час, когда вспыхнули сотни прожекторов и войска двинулись в атаку, в ритме которой я и живу до сих пор.
Самое удивительное со мной было в том, что я не плакал. Родился без плача, и дальше - все первые дни не подавал ни звука. Наверное, ждал, чем окончится битва за Берлин. Мама Рива бегала по врачам, спрашивала:
- Что же будет? Он ни слова не говорит ни на каком языке. Будто не из Одессы.
- Мы тут все не из Одессы, - отвечали врачи.
- Но вы ведь говорите, - донимала их мама.
- Говорим, потому что вы нас спрашиваете.
Мама поняла и спросила меня:
- Фимочка! Ты уже будешь один раз говорить?
Я сказал:
- Угу! - и с тех пор рот не затыкаю.
Мама была счастлива: Фимочка говорит!
Папа был счастлив: Фимочка говорит еще нечленораздельно, никто его слов не извратит и не напишет донос.
Дедушка Аврум, папа моей мамы Ривы, был тоже счастлив: ему было теперь с кем поговорить по душам.
Только что его, инвалида Первой мировой войны, попросившегося добровольцем на фронт, освободили из ГУЛАГа, куда он попал, как и многие, ничего преступного не совершив - просто по оговору. В лагере, когда он ковал Победу подручными средствами - пилой и топором, уголовники обрушили на него подрубленное дерево, сломали ногу, и теперь он едва ковылял. Но всё же был рад: ковылял ведь на свободе, а не за колючей проволокой. И охотно вышел бы на парад Победы, если бы его пригласили.
Но дедушку на парад не пригласили, вместо этого его направили вохровцем на охрану 245-го авиационного завода, в слесарном цеху которого работала вся наша семья. И он вместе со всеми нами отбыл в Ригу, где 245-й авиационный завод был переименован в 85-й ГВФ и разместился в корпусах бывшего винно-водочного предприятия, адрес: ул. Анри Барбюса, 9.
Здесь в районе концлагеря смерти Саласпилса и на товарной станции Ошкалны прибывшие с Урала рабочие разбирали штабеля дров, с вмёрзшими между бревен трупами людей, тех, кого фашисты не успели сжечь перед бегством из Риги.
Здесь, в большой нашей одесской семье, уже имевшей в моем лице урожденного уральца, появился и первый рижанин. Им, к собственному недоумению, оказался Леня Гросман, весь из себя чернявый, как смуглянка-молдаванка. Очевидно, в память о Черном море его и сотворили на берегах Балтийского. Мы с ним представляли разительную пару - я блондин, он брюнет, мои глаза - пронзительно голубые, его - отборный чернослив. Не похожи, но братья - не разлей-вода. Впрочем, эта привязанность объяснима. Он мне не только двоюродный брат, но и брат молочный. Ленина мама Беба Гросман умерла в Риге в феврале 1947 года, и моя мама Рива, её старшая сестра, отлучив уральского молодца от груди, выкормила рижского младенца своим одесским молоком, чтобы он был здоровым.
А, выкормив, стала следить, чтобы в учебе он не отступал от меня. Он и не отступал. Учился, учился и выучился в инженеры. У нас все выучились. Причем стахановскими методами, досрочно. Я, допустим, на один год раньше положенного срока закончил Латвийский государственный университет, отделение журналистики, установив своеобразный рекорд нашего высшего учебного заведения: за один день однажды сдал восемь экзаменов и зачетов. Вы спросите: к чему такая спешка? Отвечу: в моих ушах с первого класса стояли мамины слова:
- Пока ты донесёшь до меня свою пятерку, я уже умру от ожидания.
А теперь представьте: я заболел скарлатиной. Эта неприятность произошла в лет, когда ребенок практически безоружен для великовозрастных пацанов, с кем его поместили лежать в одной палате. Воспитанники улиц бросались на меня с криками, что я другого рода-племени, и мне приходилось героически отбиваться от их численного преимущества, кусаясь и царапаясь, на подобии Маугли. Исходя из этого, мое лечение шло с переменным успехом, прибавляя к высокой температуре многочисленные синяки и ушибы. Но тут младший братик Боря, следуя примеру Лени, который захворал, собираясь ко мне на выручку, тоже подхватил скарлатину. В результате мама Рива, настойчиво демонстрируя докторам-специалистам болезни грудного Бори и четырехлетнего Лени, добилась разрешения лечь ко мне в больницу. И тем самым закрыла амбразуру хулиганского дзота, проделанную драчливыми кулаками мелких антисемитов.
При зачислении в больницу активную помощь маме оказала моя старшая сестра Сильва. Она тоже успешно затемпературила, но настолько странным образом, что её исцеление могло произойти только под музыку. Такой диагноз поставили лечащие врачи. Почему? Никто этого не знает. Но догадаться легко.
Когда белые халаты проведали, что Сильва - аккорденистка, виртуозного мастерства, то быстро смекнули: на носу новогодние праздники, и без столь выгодного больного, умеющего создать настроение, их прочие пациенты помрут от скуки, если их не доконают другие заразные болезни. Сильву вместе с аккордеоном зачислили на койку в общую для пополняющейся семьи палату, где, в ожидании её репетиций, держали под мышкой градусники Боря и Леня.
Как тут не вспомнить Ива Монтана?
«И сокращаются большие расстоянья, когда поет далекий друг».
Вот это я и почувствовал, вот это я и оценил, когда услышал сквозь стенку, как пароль, что «в лесу родилась ёлочка, в лесу она росла».
Сильва? А если здесь Сильва, значит, помощь близка.
- Когда моя мама придет? - закричал вопросительно, и поднялся над кроватью. Левой рукой я держался за ее металлическую спинку, а правой размахивал, как Чапаев саблей. Но не саблей, разумеется, а полотенцем в пупырышках, связанном на конце в узел, так называемый «кулак».
Драчливые придурки, наускиваемые дядей Витей с соседней, у окна койки, бросились в атаку на человека «не того рода-племени».
- Бей жидов! Спасай Россию! - кричали они в столице Латвии.
Что оставалось? «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!» И я, обороняясь, лупил их смастеренным за ночь оружием.
- Когда моя мама придет?
Этот, отнюдь не победный клич, извлёк из-за двери санитара приличных даже для сумасшедшего дома габаритов. Он схватил меня в охапку и потащил по коридору. Куда-то туда, где призывно росла ёлочка, известная детворе тем, что зимой и летом стройная, зеленая была.
На Новый, 1950-й год Сильва давала концерт. Под ёлочкой, украшенной игрушками. Перед больными вполне излечимой скарлатиной и неизлечимым антисемитизмом. А затем, когда дошло до выписки, аккордеону, моему спасителю, придумали устроить карантин. Мол, выпусти такого наружу, глядишь, он и заразит микробами проходящую мимо публику.
«Как же так, - возмутилась во весь свой подростковый, уже неподконтрольный возраст Сильва. - Меня можно выпускать на улицу, а «Хоннер» нельзя? Никого он не заразит, я ручаюсь. Аккордеон, он даже дышать на людей не умеет, тем более кашлять с брызгами слюны».
Но врачи не поверили моей сестре. И, посовещавшись в «мертвом покое», приняли решение: устроить музыкальному инструменту если уже не карантин, так «чистку мозгов», то бишь дезинфекцию. И устроили. С помощью марганцовки, йода и медицинского спирта. Да настолько результативно, что аккордеон качественного немецкого производства, привыкший к другому обхождению, на выходе из «мёртвого покоя» охрип и сипло исполнил: «Шумел камыш, деревья гнулись. А ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра».
Под эту музыку мы - Сильва, я, Леня и грудной Боря, ещё не умеющий ходить, но активно двигающий ножками на руках у мамы, чтобы поскорей добраться до дома, - покидали гостеприимную больницу с диким желанием никогда больше не хворать. Желание подкреплялось убежденностью, что мама у нас правильная - по образованию и специальности медицинский работник: отсюда и надежды, что юношей питают вместо вирусов. И хорошо делают, что питают. Иначе каюк. Почему? Да потому, что каюк! Что тут непонятного? Каждому такую маму! 4 декабря 2015 года ей исполнилось 97 лет. Где? Не так далеко от Чёрного моря. На берегу не менее шикарного - Средиземного. В Израильском городе Кирьят-Гате. Это, конечно, не Одесса, но тоже кое-что. Казалось, ещё чуть-чуть, и доживет до ста. Но не судьба.
Что ж, повторюсь: остается вслушиваться и вглядываться. И думать о каких-то совершенно непонятных явлениях жизни и смерти, которые мы воспринимаем зачастую как обычные совпадения.
12 июня 2017 - ровно через год по еврейскому календарю - умерла в Кирьят Гате ее младшая сестра Софа Волос, талантливая аккордеонистка и преподавательница музыки, добрая душа и отзывчивый человек. Было ее 82 года. И, обернувшись в прошлое, она могла бы многое рассказать из того, что довелось некогда услышать в раннем детстве. О старшей сестре своей Риве, о второй сестре Бебе, умершей в Риге в 1947 году.
Но судьба распорядилась по-своему.
Поэтому слово передаю моей старшей сестре Сильве, пусть она поделится семейными воспоминаниями - теми, что мне не достались по малолетству.
Слово Сильвн Аронес...
- Моя мама Рива Вербовская родилась 4 декабря 1918 года в Одессе и жила с семьей на Средней улице, 35. Ее папа Аврум Вербовский в возрасте 18 лет добровольцем вступил в русскую армию и пошел воевать с немцами. С Первой мировой войны он вернулся домой с тяжелым ранением, но однако без всякой хандры и уныния, и тут же нашел себе невесту Иду Гинзбург, молодую портниху-надомницу, обшивающую своих многочисленных соседей.
Свадьба пела и плясала, как принято в Одессе. Но чтобы люди не очень радовались от обилия пищи и выпивки, в семейное торжество вмешалась Октябрьская революция.
1917 год. Смерть за каждым углом. Голод. Нищета. И несчетное количество записных ораторов, питающие толпы измученных людей надеждами на светлое будущее.
А 1918? Что-то изменилось? Тот же голод, те же погромы, та же неуверенность в завтрашнем дне. Но… Изменилось! У Иды и Аврума Вербовских родилась первая дочка. Затем еще две - Беба и Софочка, которым молодая мама шила из разных тряпочек платьица и шапочки.
Ривочка училась в школе на языке идиш. Она была худенькая и подвижная девочка, что в Одессе не приветствовалось - в моде были толстушки. А в свободное время она занималась спортом - участвовала в соревнованиях по бегу. Однажды после победы в соревнованиях высокопоставленный представитель советской власти, второй секретарь ЦК КП(б) Украины Павел Постышев погладил ее по головке, чем она по-детски очень гордилась.
После школы Ривочка поступила в одесский медицинский техникум, где обучение велось на украинском языке. Зная идиш и украинский, с пациентами общалась на русском языке. По специальности должна была работать с роженицами и обучать их, как обращаться с младенцами. Моя тогда совсем юная мама могла сделать укол, поставить клизму или банки в случае простуды. Она еще не была замужем и, понятно, ни разу не рожала, но по роду службы должна была обучать взрослых женщин, имеющих по пять-шесть детей. Эти женщины над ней подтрунивали, но любили и называли ее Ривцюцу за быстроту и ловкость в работе.
Как-то раз она пришла обучать тетю Эню, жену глухонемого Боруха, как обращаться с новорожденным. У тети Эни гостил племянник Арон Гаммер - он тоже был урожденным одесситом, но в свои 24 года успел объехать весь Советский Союз, работая жестянщиком в разных местах, не только в Одессе, но в Биробиджане, в Комсомольске на Амуре и даже в Москве.
Арон был высокий парень, с рыжеватыми волосами, и прекрасно играл на баяне. Он приглянулся Ривочке, и она зачастила к тете Эне для того, чтобы помогать ей ухаживать за малышом.
Арон Гаммер был довольно стеснительным, но ему понравилась Ривочка, и он пригласил ее в кино. Он любил фильмы с участием Чарли Чаплина, о чем позже часто рассказывал своим детям. В кино угощал девушку сладкими пирожками. Но Ривочка любила маринованные огурцы и помидоры, и молодой кавалер стал приносить ее любимые деликатесы.
В ту пору Арон работал на заводе - считался «трудовым элементом», что было в большом почете.
1 августа 1937 года Рива Вербовская и Арон Гаммер поженились.
Родители невесты предоставили им комнату, а сами пошли спать на кухню.
Молодые купили шестиламповый приемник. Приобрели люльку, соски, пеленки в ожидании пополнения семьи.
И…
И не было границ их счастью…
Наивно, но что тут скажешь…
Тем более, что дальше - война, эвакуауция, бомбежки, работа на заводе в две смены, смерть новорожденной дочки Эмочки от воспаления легких в обмороженном уральском городе Чкалове (Оренбурге), рождение Фимочки…
2
В неизбывном далеке, в том самом 1970 году, юбилейно-победном, когда в редакции «Латвийского моряка» возникла идея скомпоновать сборник о войне «В годы штормовые по принципу газетной рубрики «День первый - день последний», вначале дать очерк о капитане Дувэ, погибшем 22 июня 1941 года, а в конце...
Помнится, у меня тогда чуть не вырвалось: «Мой дедушка Аврум Вербовский умер девятого мая. Но не в сорок пятом. В шестьдесят первом».
Ох, не знал я, не догадывался, что и мой папа Арон умрет тоже девятого мая. Но уже не в Риге. В Израиле. Ровно через сорок лет после дедушки, в 2001 году. Сорок лет, сорок лет пустыни... мистические сорок лет каждой еврейской судьбы. Я в сорок лет внезапно, словно по велению свыше, стал художником. В 53 года, спустя сорок лет после первого выхода на ринг, я вновь надел боевые перчатки, и стал чемпионом Иерусалима по боксу, чтобы до семидесяти лет повторять это раз за разом.
А тогда в 1970-ом, ничего не зная о цифровом коде и предопределенности, я горько усмехнулся. Чего толковать, мой дедушка Аврум никак не укладывался в кассу метранпажа. Он был не из той войны. В 18 лет пошел добровольцем на Первую мировую, и вернулся в родную Одессу, на толчок, в 1917 с простреленной в наступательном бою рукой.
Инвалид Первой мировой попросился и на Вторую тоже добровольцем. Правда, уже не из Одессы-мамы, где в топке великого голода двадцатых годов сгорели от истощения его отец Шимон и новорожденный сынишка Мишенька. Малыш, в отличие от древнего цадика, скончался, можно сказать, в полном недоумении, обхватывая ручонками грудь своей мамы, впоследствии моей бабушки Иды, иссохшую - ни капли молока - грудь-кормилицу.
На Вторую мировую дед Аврум попросился из недр ГУЛАГа.
«Готов жизнь отдать за товарища Сталина. Чем такая жизнь, так лучше погибнуть на фронте», - писал он простреленной рукой, притоптывая в такт слов изувеченной на лесоповале ногой. Писал под диктовку Уполномоченного Органов, управляющих его подневольной долей. Просьбу уважили. И досрочно, весной 1944-го, выпустили из Соликамска, щедрого на смерть концлагеря. Но медицинская комиссия забодала старого, под пятьдесят, солдата. Рука на перевязи. Нога, переломанная в колене упавшим деревом, вывернута диким образом, лицом к пятке, будто смотрит не на передовую, а в тыл.
И дед Аврум вместо фронта попал в Оренбург, тогда Чкалов, охранником на 245-й авиационный завод. Здесь, в слесарном цехе, обе его дочки Рива, моя мама, и Беба, её сестра, жена Абрама Гросмана, тоже законного внука Молдаванки, вкалывали с опережением плана в одесской бригаде жестянщиков моего папы Арона. Эта славная семейка клепала подогревы и бензобаки для бомбардировщиков дальнего следования, которые утюжили крыши Берлина. Им же за ратный труд выделялась на всех троих в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла. Суп полагался только бригадиру, то бишь моему папе Арону, а простые рабочие, жена его Рива и ее сестра Беба должны были давиться сухим хлебом. Впрочем, процесс насыщения был рационализирован, и суп зачастую использовался в качестве вкусового размягчителя для хлеба. Он так же, как и стахановский суп, отпускался по карточкам, 800 грамм работающим, 400 иждивенцам и детям. А иждивенцем в этой мишпухе числилась разве что бабушка Ида, детьми же - её младшая. девятилетняя дочка Софочка, мои сестры шестилетняя Сильвочка и трехмесячная Эммочка, скончавшаяся, правда, вскоре после получения карточки на питание от воспаления легких, а также, впритирку к ним, трехлетний Гришенька Гросман, умудрившейся родиться в Одессе под бомбами 25 июня 1941 года.
Чтобы не сдохнуть от щедрот государства, ломающего хребет фашизму с попутным исправлением сутулости своего народа, необходимо было найти Ангела-хранителя. На эту роль вызвался Гришин папа Абраша Гросман. Он устроился электриком на хлебокомбинат. И по этой причине приобрел связи, полезные для внедрения своих домочадцев, земных авиаторов, в пищевую промышленность. Одесская бригада жестянщиков моего папы Арона после дневной смены отправлялась на ночную. На комбинате они изготовляли железные формы для хлебной выпечки. Вознаграждением за труд служили обрезки хлеба, позволительные для выноса через проходную. Эти обрезки шли в пищу, а истинный хлеб, получаемый по карточкам, на продажу. На вырученные от продажи хлеба деньги покупали картошку. А очистки от картошки, с глазками и без, сдавали для огородных и прочих нужд местным домохозяйкам. В обмен на катушку ниток. С помощью этих драгоценных ниток моя бабушка Ида Вербовская на швейной машинке превращал старые юбки в новые платья и курточки. Товарно-денежные отношения нашей семьи с враждебным ей миром укреплял мой папа. За счёт баяна, когда играл популярные мелодии на базаре, привлекая покупателей к прилавку с кустарными новинками ширпотреба бабушкиного производства. Или за счёт ботинок и сапог. Их точал, покачивая меня в люльке, в свободные от основной работы часы или в редкие выходные. А свободных часов у него тогда, в Чкалове, на улице Ворошилова, 49, выпадало крайне мало, как, впрочем, и всю жизнь. Или он вкалывал на заводе, по две смены. Или спорил с инженерами и технологами, отстаивая свои изобретения и рационализаторские разработки. Или, виртуоз баяна и аккордеона, выступал на сценических площадках Одессы, Москвы, Риги. Или сочинял музыку, в основном фрейлехсы, а к ним и поэтические тексты.
Трудовую деятельность, как вспоминал с долей юмора мой папа Арон, он начал, едва научившись ходить. Лет семи он уже мастерил хлебные формы в знаменитой булочной Бенчика. Почему знаменитой? Потому что за ту же маленькую цену у Бенчика можно было купить самый большой в Одессе хлеб. Откуда пошёл этот слух? Слух этот шёл по Одессе на ногах моего юного папы. Бенчик оплачивал его труд не деньгами. Хлебом. Для подручного своего Арона он выпекал особую буханку, размером с упитанного младенца. И когда папа направлялся в обнимку с пахучей сдобой домой, то все встречные спрашивали у него:
- Где в этой жизни, мальчик, ты достал такой большой хлеб?
- У Бенчика!
Что и говорить, реклама - двигатель торговли. И покупатели не обижались на Бенчика и тем более на моего смекалистого папу, убеждаясь в булочной: за маленькую цену большого удовольствия не увидишь.
В тринадцать лет моего папу Арона, с нарушением всех возрастных норм, приняли в профсоюз и назначили бригадиром жестянщиков. В двадцать один, в тридцать четвертом, он уже работал в Кремле. Да-да, в том самом, где никогда не гас свет в окне товарища Сталина, как писали стихотворцы.
В Кремль папа попал, будучи проездом в Москве. В 1933-ем, в пору очередного голода в Одессе, он повёз свою старшую сестру Бетю в Биробиджан. Там намеривались создать родину для теплокровных евреев непрошибаемого по крепости мозгов Советского Союза. Если Россия родина слонов, справедливо задавались вопросом башковитые аппаратчики, то почему медвежий край не родина для евреев?
«Родина! Родина!» - закричали в Одессе люди еврейской национальности, состоящие из супного набора - костей, сухожилий и хрящей. И кинулись на берега реки Биры за толикой калорий, чтобы нарасти мясо на скелетном каркасе тела.
Оставив Бетю обживаться в таежной глубинке, мой папа Арон двинулся на заработки в Копай-город - так по-простецки называли дальневосточники Комсомольск на Амуре. Наяву мечта зодчих Светлого Будущего представляла собой всего лишь землянки и великое множество замерзающих повсеместно ударников труда. Папа сразу сообразил, что пламенные речи вербовщиков - ничто по сравнению с «буржуйками». И стал изготовлять железные печки, с выходной трубой-дымоходом, обогревать Копай-город, уснувший в глубоких снегах. В знак благодарности за выживание комсомольская стройка одарила его брюшным тифом и, погрузив бесчувственного баяниста-жестянщика в эшелон, отправила по рельсам умирать в неизвестном направлении. Тут папе и подфартило. Он и впрямь сделал остановку в самой настоящей коммуне, где всё бесплатно. Но предварительно очухался от тифа, привычно победив нутряной жаждой жизни отупляющий зов смерти. Попав ненароком в Москву без копейки в кармане, он с попутчиком своим Стёпкой приступил к поискам работы. На доске объявлений прочитали: «Требуются кровельщики-жестянщики».
Обратились по адресу.
Их приветили. Посадили в машину с конвоиром. И доставили в Кремль. В Кремле сопроводили на чердак. И там, на чердаке, доверительно сообщили: «Крыша у нас поехала. Когда сбрасывали царского орла со шпиля, он пробил дырку в кровле, её не заделали, вот крыша у нас и поехала». Папа внимательно выслушал кремлевского завхоза. И согласился: крыша у них действительно того... Это надо же, крыша у них, почитай, поехала прямиком с семнадцатого года, с самой революции, когда скидывали орла наземь, а спохватились только сейчас и бросились на поиски специалистов. Излишне говорить, мой папа был большой специалист по кровельному делу. В Одессе с тридцатых годов жестяная крыша его работы украшает Первое артиллерийское училище, если ее еще не украли. Наш фамильный знак можно встретить в Кракове и Варшаве, на островерхих кровлях костелов. Увековечен он дедом моим Фроимом, а до него и прадедом Арн-Бершем. Ещё в 19 веке. Эти люди являли собой настоящих мастеров молотка и ножниц. Они выезжали из Одессы на трудовой променад в Польшу, получая, как некогда маститые живописцы Возрождения, персональные приглашения из мэрии или от именитых горожан. Вот и в Москве все вышло по правилам. И мой папа Арон, не нарушив семейных традиций, благосклонно принял приглашение отремонтировать крышу Кремля не от кого-нибудь, а от Самого... Имя, честно сказать, он не помнил. Да и кто вспомнит теперь этих репрессированных завхозов Советской власти?
Распрощавшись с работодателем, мой папа приступил со Стёпкой к починке прохудившейся кровли. Работали с огоньком. Стёпке от того огонька прикурить захотелось. Ан не прикуришь, когда папирос нет в наличии. Тут и время обеденного перерыва приспело. Кушать хочется, а денег нет.
Что делают люди, когда им хочется кушать? Идут в столовую. Даже без денег.
- Может, какой газеткой перекроемся и хлеба пожуем на халяву, - предложил Стёпка, выманивая папу моего Арона с чердака на аппетитный запах.
Столовую нашли. Газету тоже. Перекрылись газетой, будто шибко грамотные, и давай потихоньку хавать. Тут подбегает к ним официантка, вся такая упитанная, в кружевном передничке, с бархатным голоском.
- Что вам подать, того-этого? Не гоже хлебцем хрумкать по-сухому, без сопровождения борщеца с капустой и мозговой костью.
Раскраснелся папа мой Арон от стыда. Раскраснелся Стёпка.
- Денег, дамочка из пищеварительного треста, нема у нас. Ну, ни копейки грошей!
- А денег и не треба, - расщедрилась девица. - У нас тут полная коммунизма. Мы и без грошей кормим от пуза.
Стёпка тут же заказал на двоих. От пуза. И от щедрот дарового коммунизма. Чего только он не заказал, вспомнить - удавиться можно в последующие голодные, а они всегда при советской власти, голодные годы. И борщ заказал. С капустой и мозговой костью. И котлет заказал. Картошку в мундире. И репчатый лук. Чай заказал. Конфет-монпансье заказал. Коробок спичек. И четыре пачки шикарных папирос. Всё заказал, что душе угодно.
Помнится, пресекал я папу на этом царском заказе и спрашивал, почему он вернулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утёсова, Ильфа и Петрова, Маргариты Алигер и Семёна Кирсанова? Почему не остался жировать на бесплатных хлебах в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставрации поехавшей у большевиков крыши?
И он мне отвечал, разумно и обстоятельно:
- А где бы тогда был сегодня ты? А Сильвочка? Боренька? И кто бы женился на твоей мамочке Ривочке, если бы я остался в Кремле? Брежнев? Да и жив ли я был по тем погодным условиям, если бы остался в Кремле? Может быть, со всеми своими музыкальными и техническими способностями я бы стал не братья Покрасс и не Микоян - Гуревич, на военном языке МИГ, а пропал бы на тёмных задворках ГУЛАГа, как Мандельштам. Кто знает? А так я знаю, что благодаря изобретённым мной подогревам, бомбардировщики, не обмерзая, долетали на большой высоте до Берлина. И пели Гитлеру небесную-заупокойную: «Нам сверху видно все, ты так и знай». А Герингу, который сказал, что съест свою шляпу, если одна бомба упадет на Берлин, я бы эту шляпу засунул сначала в задний проход, а потом в рот. Пусть скушает её с нашей начинкой.
Семейные истории, как и вселенские, не терпят сослагательное наклонение.
Арон, сын Фройки, вернулся из Москвы в Одессу. Стал работать на заводе, а по вечерам играть на баяне в парке Шевченко. Влюбился в красавицу-медсестру Ривочку Вербовскую, закончившую школу на идиш, медицинский техникум на украинском и бегло говорящую по-одесски на русском - языке своего бессмертного земляка Пушкина. И сделал ей предложение после того как она сделала ему безболезненный укол.
Девушка не устояла в свои шаткие восемнадцать лет от предложения выйти замуж. Жених - первый сорт, представительный человек с множеством талантов: метр восемьдесят семь ростом, 96 кг. весом, атлетическая фигура с накаченными на кровельных работах мышцами, чемпион Одесского порта по боксу 1931 года в тяжелом весе, популярный в городе музыкант, сочинитель доступных пониманию стихов, начинённых юмором. Ничего больше и не надо для полного счастья!
В 1937-ом папа женился. В тридцать восьмом родилась Сильвочка. В 1940-ом папа, дефелируя по Одессе сразу с двумя молодыми женщинами, женой Ривой и её младшей сестрой Бебой, встретил у кинотеатра заводского приятеля Абрашу Гросмана.
- Какие чудесные девушки! - сказал вместо приветствия Абраша, не скрывая вспыхнувшего в сердце восхищения.
Надо отметить, он заметно хромал, правда, без особой выразительности, на правую ногу. Этот недостаток, при несомненных достоинствах левой ноги, искупал внешними данными: роскошной гривой, обаятельной улыбкой, быстрым на различные комбинации умом. И всё это великолепие увенчивала редкая по тем глинобитным временам, но чрезвычайно модная профессия электрика. Совсем кстати у Абраши на руках оказались лишние билетики, а в грудной клетке щедрое на подарки сердце. И он, «не отходя от кассы», тут же потерял голову от неземной красоты мадмуазель Бебы Вербовской. «По выходе из сеанса» сделал Бебе на месте, людном месте, между прочим, признание в нержавеющей до старости любви. И повел было её мимо родительского дома в ЗАГС. Но тут им перегородил дорогу дедушка Аврум Вербовский, уже с простреленной рукой, но еще не хромающий. Он увидел хромающего Абрашу, не представляя, что так будет выглядеть и его будущее после лесоповала, и, рассерженный по причине хромоты незваного жениха, вознамерился отказать ему в руке и сердце дочери.
Но если Абраша Гросман говорил: «Хочу жениться», он непременно женился. И таки он женился на Бебочке Вербовской ровно в 1940 году, чтобы старший его сынок Гришенька исхитрился-выскользнул из материнского лона прямо под немецкие бомбы 25 июня 1941 года. Точно в тот день, когда мой папа Арон получил официальное письмо-извещение из Москвы, из Государственной фирмы грамзаписи о том, что его фрейлехсы одобрены взыскательной комиссией, включающей в свои ряды чуть ли не Михоэлса, и обретут теперь новую жизнь, будучи представлены на авторской пластинке в декабре 1941-го.
Ну а дальше? Дальше ещё та музыка. Эвакуация. Южный Урал. МТС. 245 авиационный завод. Передислокация в 1945-ом в Ригу, где на улице Барбюса, 9, военный завод переименовался в 85-й ГВФ и разместился в цехах бывшего винно-водочного предприятия, что немало способствовало перевыполнению плана и повышению энтузиазма рабочих, которые приноровились скрытно добывать лакомые напитки из винных подвалов.
Дальше, в 1947-ом году, 20 февраля, через восемь месяцев после появления на свет Лёни, второго ребенка, Беба умерла из-за отказа почек, и моя мама Рива выкармливала его той же грудью, от которой отлучала меня незадолго до смерти сестры.
Абрам Гросман, к слову мистическому в подвёрстку, пережил Бебу ровно на 40 лет, как мой папа дедушку Аврума, и плюс к тому ещё шесть дней. Он умер в Таллине 26 февраля 1987 года. Но какой потаенный смысл в этих шести добавочных днях? Однако, если представить себе, что он был старше Бебы на шесть лет, а на том свете не иначе, как день за год, тогда всё логически укладывается в какую-то, недоступную нашему разуму систему, этакую космическую мозаику. Так это или не так, не нам судить. Нам помнить!
Дальше, в 1948 году, перед уничтожением еврейской культуры, Советская власть облагодетельствовала моего папу Арона знаком «Отличник Аэрофлота», приравненном в авиационной промышленности к иному ордену. А в 1953-м, уже не пряча оскала саблезубого тигра, собиралась объявить его же, не слезающего с Доски Почета, вредителем. И намылилась отправить всех нас туда, куда Макар телят не гонял. Бог помог. В Пурим. И Сталин скоропостижно отдал Ему душу. А нас оставили сидеть в растерянности на подготовленных к выселению из квартиры чемоданах. По сути дела, оставили в живых. Наверное, потому я и люблю этот праздник. Наверное, и мой сын Рони не случайно родился в Пурим. И не случайно здесь, Иерусалиме. В день, когда обильно шёл российский, можно сказать, снег. И не случайно в Пурим 1980 года. Сложим цифры. 1+9+5+3 = 18. 1+9+8+0 = 18. 18 на иврите, в буквенном значении, дает слово Хаим, мое имя по-еврейски, значащее в переводе на доступный язык - ЖИЗНЬ. Случайна ли череда этих совпадений? На мой взгляд, не случайна. Да здравствует жизнь! Она тоже не случайна, если её можно назвать жизнью.
Дальше, в 1977 году, мои родители уехали из Риги в Израиль, в Кирьят-Гат, оставив на еврейском кладбище дедушку Фройку и бабушку Сойбу, урожденную Розенфельд, дедушку Аврума Вербовского и мою тетю Бебу Гросман, а на старом еврейском в Одессе моих прадедушек и прабабушек Арн-Берша с женой и Шимона Вербовского с женой Эстер.
Здесь в Израиле папа, нежданно для себя, почти в восьмидесятилетнем возрасте, стал снова из баяниста-аккордеониста композитором.
Как известно, всё новое, это хорошо забытое старое. Памятуя о том, мой брат Боря, саксофонист, кларнетист и оранжировщик, создав Иерусалимский диксиленд, переозвучил папины фрейлехсы тридцатых годов на самый модерный лад. И повез их после триумфального представления на сцене Иерусалимской академии музыки, где преподает джазовое искусство, на международный фестиваль в Сокраменто, США.
Папа, если серьезно, в его тоне, говорить по существу проблемы, рекомендовал маэстро Боре сделать пересадку в Одессе, там лучше поймут и оценят музыкального младенца шестидесяти нержавеющих лет. Оно и понятно. По его, папиным убеждениям, на Дерибасовской, где открылася пивная, играли на трубе, медных каструлях, дедушки его Арн-Берша производства, и даже двуручной пиле задолго до Нью-Орлеана. И причём не как-нибудь натощак, а в сопровождении диких кошачьих визгов. В Америку же всё это музыкальное богатство завезли штатовские моряки, не знающие при наличии воровских замашек, что ещё такого ценное можно украсть в городе, называемом Жемчужиной у моря, когда в нем уже побывала на променаде Сонька - Золотая ручка.
Но факт есть факт. На творческом мосту, перекинутом через десятки лет, каким-то мистическим образом, в соитии еврейских мелодий и модерных ритмов, родилось новое джазовое направление «Дикси-фрейлехс», и несло оно на себе, как и древние крыши Кракова и Варшавы, фамильный наш, отличительный знак. Столь же мистически, не иначе, папины фрейлехсы, прозвучав первый раз над Сокраменто в 1991 году на всемирном марафоне диксилендов, были восприняты публикой просто-напросто восторженно, и затем, согласно проведённому опросу, признаны там самыми популярными композициями, своего рода открытием фестиваля. И слушатели вызывали на бис новоявленного по их представлениям композитора, преисполненного творческой смелостью и молодым задором. А он, находясь на пенсионном довольствии в Кирьят-Гате, узнавал об этих вызовах со слов Бори и его оркестрантов. Так было в 1991-ом и в 1993-ем, в 1996-ом и в 1998-ом, вплоть до 2001-го года, когда папа и захоти даже выйти на приветствия, не мог уже осуществить это позднее желание... по вполне уважительной причине.
Он умер девятого мая, ровно через сорок лет после моего дедушки Аврума, не дожив Всего Трое Суток до своего Дня рождения - до восьмидесяти восьми лет. И покоится невдалеке - по земным и небесным понятиям - от своей жены Ривы и от Иды Вербовской, жены дедушки Аврума и моей бабушки.
Воля небесная? Воля земная? Или скрытая воля войны?
СТАЛИН - ГИТЛЕР: ДЕСАНТ НА ЭЛЬБРУС
1
26 июня 1945 года в Советском Союзе введено воинское звание Генералиссимус. В тот же день оно было присвоено Иосифу Сталину. Основанием для этого послужило ходатайство производственного коллектива московского завода «Рессора», последующее в феврале 1943 года сразу за успешной атакой Красной Армии на Эльбрус, чтобы сбросить с вершины флаги Третьего рейха и бюст Гитлера, а взамен установить советские флаги и бюст Сталина.
Тут напрашивается зубодробительный заголовок «Бюстом бюст поправ». Но я употреблю другой, более соответствующий ситуации, ведь в десанте на Эльбрус и в установлении на его вершине гипсового бюста Сталина, сбросив предварительно гитлеровский в пропасть, участвовал и мой двоюродный брат Моисей Гкрцензон. Безотносительно к идеологии и газетной рубрике «Так поступают советские люди», Моисей и его товарищи по оружию, выпускники пехотного училища, вызвались, не задумываясь, на смертельно опасную операцию, зная, что не многие вернутся живыми в казарму, и совершили подвиг.
2
«Озлюсь на девушку-красу, и завалю лису в лесу», - сочинил, не думая, Костик Сирый, когда перед отбоем зашел в душевую, чтобы в здоровом теле иметь тщательно вымытый дух. На фанерном шкафчике была прикноплена бумаженция с надписью, старательно выведенной чернильным карандашом башковитым башкирцем из Уфы Алдаром Таштимеровым: «ЧИСТОЕБАННОЕ ПОЛОТЕНИЦЕ ДЛЯ МОЙКИ. Кол. 10 штук на момент закладки. Количество штук меняется в порядке употребления».
Расстегнув гимнастерку, Костик готов был уже стянуть ее через голову, как прозвучала сирена.
- Ро-о-та, тревога! - крикнул дневальный.
Личный состав военного училища выставили шеренгой в коридоре, между плакатов с призывами отдать жизнь за Родину и генералом из Генштаба, могучим, откормленным, в орденах и медалях, которого сопровождал знакомый уже Костику капитан Задолбов.
Он и выступил перед солдатами, во множестве своем не обстрелянными и оттого до ужаса храбрыми.
- На вашу долю выпало ответственное и исключительно почетное задание. Это я вам говорю, капитан Задолбов. Вызываются добровольцы.
Замполит начальника училища тут же поспешил с наводящим вопросом:
- Есть добровольцы?
Добровольцы? Строй курсантов молча шагнул вперед.
Приезжий генерал недовольно покосился на замполита, и тот проглотил, не разжевывая, следующий вопрос. А он, если отбросить секретность, гласил: «Кто из вас прыгал с парашютом?» И задать его, естественно полагалось приезжему генералу.
Замполит отлично понимал: ни один из его воспитанников к парашюту и не прикасался. А уж прыгать… Прыгали только через спину друг друга, когда ради «физухи» играли в «Чехарду»
- Кто из вас прыгал с парашютом? - приезжий генерал задал главный вопрос сегодняшнего дня. - Шаг вперед - за предел шеренги! И в строй к капитану Задолбову!
Первым шагнул за предел, хоть никогда и не прыгал с парашютом, Моисей Герцензон, сын одесского ювелира Давида и его жены Мани, урожденной Гаммер. Только что он получил известие о том, что погиб его старший брат Леонид - краснофлотец-подводник, и теперь рвался в бой - поквитаться с врагом. Вторым шагнул за предел башковитый башкирец из Уфы Алдар Таштимеров. Он тоже не прыгал с парашютом. Но имя требовало: Алдар - славный. Но фамилия велела: Таштимеров - это «таш» - «камень», а «тимер» - «железо».
И Костик Сирый, понятно, не прыгал с парашютом. Но разве мог он припоздниться, если братаны по оружию произвели с двух боков от него волновое движение воздуха, и куда? Навстречу смерти! Нет, туда их одних он не пустит! И Костик, не медля, вышел из строя: погибать, так за компанию. Эта мысль, по невидимой инерции, передалась и остальным курсантам. Весь строй сделал шаг вперед, по определению, на тот свет и к бессмертию.
И тогда приезжий генерал раскрыл смысл задания Генерального штаба: от них, не имеющих представления, что такое стропы, купол, вытяжное кольцо, требовалось высадиться на Эльбрусе, согнать егерей отборной немецкой дивизии «Эдельвейс», установивших там мраморную фигуру Гитлера, и на смену каменному болвану впечатать на вершине гипсовый бюст Сталина.
Каждый из курсантов получил по одному Сталину, засунул его в вещмешок и, вооружившись винтовкой Мосина, рванул на аэродромное поле.
- От винта!
- Есть от винта!
…Одни погибли сразу же из-за неумения раскрыть парашют. Другие разбились об острые уступы каменных склонов. Третьи истекали кровью от ранений при штурме огневых точек и горных гнезд противника.
Костик Сирый летел сверху вниз, не думая о последствиях. Его мотало, как черт знает что в проруби. Наконец он приземлился, уцепившись за скалистый выступ. «Жив? - подумал о себе. - Жив! Жив!»
Когда человек остается в живых, он ищет себе подобных - живых. Костик так и поступил. Поискал и нашел.
Сначала он нашел башковитого башкирца из Уфы Алдара Таштимерова.
- А где Сталин? - спросил, видя, что тот без вещмешка.
- Оторвался от спины.
- Как?
- Дернул я за кольцо, меня самого дернуло, парашют раскрылся, Сталин оторвался. И в тьму-таракань - бац!
- Скажем по начальству, что прямо на врагов, как бомба, чтобы их разорвало.
- Скажем… А твоего Сталина поставим на место Гитлера.
Вытащили из рюкзака гипсовый бюст: глядь, а у него голова отдельно, торс отдельно.
- Что такое? Почему секир-башка?
Костик догадался о причине отсечения верхней конечности.
- Приземляясь, я на бок завалился. Вот и… баюшки баю…
- Делают вождей из всякой дряни, - вздохнул башковитый башкирец.
- Не говори вслух, враг может услышать.
- А что говорить, если враг слышит?
- Будет праздник и на нашей улице! - Костик выдал подсказку напарнику по неприятностям, и будто передал пароль.
Услышал его Моисей Герцензон, и вышел на звук родной речи.
- Будем жить, ребята!
- А Сталин?
- Что Сталин?
- Цел-невредим?
- Что с ним случится? Цел!
- Тогда с Богом, - сказал башковитый башкирец, чтобы реабилитировать себя за потерю государственного имущества.
- Пойдем, - согласно кивнул Костик Сирый. И вопросительно взглянул на Моисея: как пойдем? Кругом шпреханье, неподалеку надрывается немецкий ручник МГ.
- Пойдем своим ходом, - ответил Моисей.
И они пошли своим ходом: пулей, штыком, гранатой. И с Богом. И со Сталиным. И не ведая, на кого уповать больше, добрались вплотную до геноссе Гитлера и сбросили его в пропасть. А на освободившийся бугор, как на пьедестал, поставили своего назначенца.
- Кто жив, к нам! - кликнули выживших.
Малая горсточка бойцов собралась вокруг Моисея Герцензона, Костика Сирого и Алдара Таштимерова и громыхнула салютом - в честь живых и мертвых. А на утро они сдавали под расписку о неразглашении лишних Сталиных завхозу военного училища. Взамен получали по звездочке на погоны из рук приезжего генерала и предписание для отбытия на фронт, в действующую армию.
3
Тогда же в память о боевой операции и присвоении первого офицерского звания Моисей Герцензон сфотографировался в местном ателье. Снимок прислал нашим общим дедушке и бабушке Фроиму и Сойбе Гаммер. Надпись на обратной стороне гласила, что это его первая награда за первый бой.
А впереди у Моисея было ещё много боёв, до самого Берлина, и много наград. Но тогда, отсылая фотографию бабушке и дедушке, он не имел возможности заглядывать в будущее. Мог рассчитывать только на то, чтобы остаться в памяти не только любимым внуком, но и в образе солдата, пошедшим добровольцем на войну, чтобы изгнать оккупантов с нашей земли и отомстить за гибель их старшего внука и своего родного брата Леонида, погибшего в 1941 году на подводной лодке.
ЕСЛИ БЫ НЕ ЭРЕНБУРГ
В начале пятидесятых годов в Риге мимо нашего дома по булыжной мостовой улицы Аудею ежедневно ранним утром вели под конвоем толпу пленных немцев. Куда? На работу. Восстанавливать то, что разрушили своими бомбами и снарядами. Гостиницу «Рига». До войны она называлась «Рим», была высшего разряда и располагала шикарным винным погребком, который, по слухам, тоже вздумали восстановить.
Немцев охраняли довольно плохо, позволяли нам, мелкоте ветрогонной, подкармливать их. Разумеется, не пирожками с повидлом - черным хлебом, вареной картошкой, кислыми огурцами. Подкармливать не так, чтобы за так, а в обмен на сувениры и всякое разное, пригодное для наших бездонных карманов. У этих фрицев, прошедших всю Европу с грабительским интересом к чужому добру, легко было отовариться марками, значками, пуговицами с тиснением, монетами неведомого денежного достоинства. Допустим, вычеканена на кругляке цифра 1 или 2, а что это - франк, пфенниг, доллар? - хренушки разберешь. И в магазин не двинешь с подобными деньгами, сразу отведут в милицию.
Марки раскладывали по альбомам. Значки цепляли на лацканы пиджаков, пуговицы, чтобы фраернуться, пришивали к рубашкам. Мечтали заполучить губную гармошку. Но впустую, ибо жизнь давала понять: мечтать не вредно.
Но с того дня, как задумали провести во дворе чемпионат мира по детству, ждали не только даровой гармошки, но и тревожного часа Х, когда пленники, по нашим предположениям, набросятся на охранников, завладеют их оружием и… да-да!.. мы двинем на спасение родной Риги от коричневой чумы - фашистов.
Как сказано, порох мы держали сухим, а палец на спусковом крючке. Но немчура не мутила спокойную рябь повседневности каким-либо недовольством, переходящим в бунт, который под позаимствованные из книг крики «хальт! хенде хох!» мы «искореним на корню», как пишут в газетах о пьянстве и уличном мордобитии.
Пусть пленников охраняли плохо, они все равно не порывались смотать удочки в родную Германию. Конвоиры были уверены: никуда они не убегут, некуда им бежать - кругом, куда не посмотри, на тысячи километров земля наша. Упарятся бегать! Потому и стерегли их без окриков, без устрашающих выстрелов в воздух и тем самым не вызывали в заключенных нервного брожения, переходящего, как учили в школе, в неуправляемое волнение масс. У них без неуправляемого волнения, у нас, доморощенных Робин Гудов, без героической схватки с гитлеровцами.
Как сравниться с отцами в освоении суворовской науки побеждать?
Что делать?
Думать, думать, думать, как учил Петьку на уроках стратегии Василий Чапаев.
А кто много думает, тот, наконец, и додумается.
Я додумался.
- Давай выкрадем фрица из колонны, а потом его вернем, как новенького, будто поймали в бегах и в плен взяли!
- Да он, мабуть, в плен сцапанный, когда тебя, Финичка, и в проекте не было, - встревожился Эдик Сумасшедший, не любящий впустую бегать на перегонки.
- Взрослыми сцапанный! А взрослые нам не соперники в чемпионате мира по детству!
- Нам за такое дело дадут по шапке.
- Сначала медаль «За отвагу».
- А кто кормить будет, этот лишний для нашей кухни рот? Меня мамка из дома выгонит, если я стибрю чего-то похамкать для недобитой этой посторонней личности.
- Меня не выгонит, - раздумчиво сказал я, помня, что моя просьба - «Мама! Дай мне хлеба с маслом и сахаром! - признавалась на правах законного требования.
- Ну, если ты согласен кормить лишний рот…
Неопределенное «ну» было воспринято, как знак согласия. И меня тут же отрядили на проведении операции. В сопровождении Эдика Сумасшедшего - самого честного, по его собственным словам, свидетеля.
Мигом я оказался на этаже своей квартиры.
- Мама! Дай хлеба с маслом и сахаром!
- Один кусочек?
- Четыре!
- Проголодался?
- Ленька тоже кушать хочет. И Борька…
Умело завернул многоэтажный сэндвич в газету, чтобы масло не проступало сквозь бумагу.
- Ты куда? - спросила мама.
- На задание! - и рванул в коридор.
- Но сначала покушай, и далеко не убегай, сегодня день рождения у бабушки Сойбы, будет торт с лимонадом, - неслось мне вдогонку на крыльях материнской любви, пока я распахивал дверь на лестницу.
Во дворе кликнул Эдика Сумасшедшего и вперед-вперед к недостроенной гостинице «Рига». Швейцара там еще не наблюдалось. Опасаться было некого. Солдат-часовой смотрел на нас совсем не так, как в замочную скважину. Без всякого любопытства.
«Шастают тут, шастают, - рассуждал он, будто читая мои мысли. - Подкармливают паразитов. Нет, чтобы угостить советского солдата, который кровь за них проливал».
По возрасту, этот солдат кровь еще ни разу не проливал - ни за нас, ни за братьев наших меньших. Папа его, может быть. Папу и угостили бы. А он…
Что с человека возьмешь, когда и ему нечего взять с нас?
Отдали честь по-мальчишески и прошли в холл, а оттуда - это мы уже досконально изучили - направо, и вниз, где закладывался бар, получивший от нас в конце шестидесятых прозвище «Подводная лодка». Сбоку от него возводилась кабинка с цифрами 00. Унитаз монтировал пожилой сантехник с утолщенным носом, морщинистым лбом, добродушным лицом. Был он в кепи и потертой шинели мышиного цвета. В прошлый раз я отоварился у него редкой маркой с изображением английской королевы.
Уткнувшись лбом в сидяк, старик подвинчивал болты у основания унитаза гаечным ключом. Повернул голову на скрип двери, снял головной убор и поманил им к себе:
- Киндер? Ком-ком...
- Бутерброд, - сказал я, полагая, что сносно перевел на язык Гете словосочетание «хлеб с маслом» и показал бумажный сверток.
- Гуд-гуд!
Немец поспешно потянулся за угощением и я, не успев отпрянуть, остался с пустыми руками.
- Гуд-гуд! - бормотал сантехник, разворачивая пакет
Эдик Сумасшедший толкнул меня в бок:
- Хватит уже ему «гудеть». Воткни ствол в ухо и бери в плен!
- А как мы его выведем отсюда? Незамеченными не выйдем, - вдруг проснулась во мне здравая мысль.
- Тогда пальни! Человек не может выбрать начало своей жизни, но конец чужой может, - заметил Эдик, как будто совсем не сумасшедший.
- А что скажут люди?
- Я первый скажу, что он сам застрелился. На моих глазах. И поклянусь, чем они пожелают.
- А револьвер? - напомнил я Эдику о своем однозарядном пистолетике, найденном на чердаке нашего дома.
- Что - револьвер?
- Получится, что мой пистоль принадлежит ему, если он из него застрелился. И, значит, мы лишимся на всю жизнь оружия.
- Ну, ты даешь, Финичка! - разозлился старый приятель. - Найдешь еще, у вас на чердаке с войны чего только не припрятано. А то и фашиста хочешь пришить, и пушку сохранить. Так не бывает. Или то, или другое. Или третье.
- А что - на третье?
- Не видишь?
Эдик Сумасшедший - не мне чета! - разглядел сходу то, что только сейчас я увидел. Немец, игнорируя наши распри, стянул с ноги короткий сапог с широким голенищем. И - вот так диво! - отвинтил каблук. Хитро придумано: оказалось, он полый, а внутри, в специально вырезанном углублении, припрятан медальон. Был он желтого цвета, должно быть, изготовлен из латуни, с голубым камушком на верхней дверце, которая открывалась при нажатии кнопки и показывала спрятанную на дне миниатюрную фотку. На снимке - женщина в белом подвенечном платье и красивый молодой человек с шапкой вьющихся волос. Усики у жениха - узкие, щеголеватые, как у Раджа Капура в кинофильме «Бродяга», самом любимом у рижских зрителей 1954 года: билетов не достать, а очередь в кассу - хоть стой до завтра.
«Медальон подарю бабушке Сойбе, - осенило меня. - Восемьдесят четыре года - не шутка. Это же надо, как подвезло в день ее рождения!»
И мне расхотелось брать немца в плен. Гораздо сильнее захотелось позаимствовать ювелирное изделие.
- Гиб мир - дай мне, - сказал разом на двух созвучных языках - идиш и немецком, помня, что мама, укладывая детей в кровать, пела «гиб мир а бисиле мазл» - «дай мне немножко счастья». И добавил, культурной воспитанности ради: - Данке шон! - Большое спасибо!
В итоге «бартерной сделки», как написали бы сегодня, я приобрел драгоценное украшение из неизвестного металла в обмен на бутерброд с маслом и сахаром. Свое приобретение я засунул поглубже в карман брюк, чтобы на выходе из гостиницы не отобрал охранник, и поспешил восвояси.
«Отличный подарок!», - тихо радовался в уме, позабыв на некоторое время о чемпионате мира по детству.
Бабушка Сойба сидела на табуретке в углу комнаты у тумбочки с радиоприемником, подкручивала ручку настройки громкости и согласно кивала в такт торжественно произносимых диктором слов.
- Фройка, послушай, что говорит умный человек в Москве, - повернулась к мужу, нарезающему острым ножом лучину для растопки плиты, чтобы готовить праздничный ужин. - Говорит: «урожай». И обратно говорит: «рекордный». В одном таки он прав - собрали. Но куда все это увезли? Что мы видим с этого урожая своими глазами, если они не слепые? Только очереди. В магазинах очереди за сахаром, колбасы нет, и сыр пропал с прилавков.
- Ох, казачка! - отвечал дедушка Фройка. - За диктора речи нет, но хватит думать про тех, кто говорит по радио. Им пишут - они говорят. И зарплату получают. Два раза в месяц. Сначала аванс, потом получку. А мы слушаем, развесив уши, и получаем пенсию - всего один раз в месяц.
- Мы эту пенсию видим в полный рост только в кассе, после подписи о получении. А потом, как пойдешь на базар с кошелкой, от нее остаются только слезы.
- Но я все равно, Сойба, купил тебе за эти слезы подарок. Материю купил на платье. Будешь, как новенькая, когда ходили в кафе «Фанкони», на Екатерининской…
- Чтобы потом подышать свежим воздухом с Дюком на Приморском бульваре…
- И одеколон «Шипр» не забыл, тоже купил, чтобы ты пахла, как на свадьбе.
- Гинук! (Хватит! - идиш.) Я тебе не фаршированная рыба, чтобы пахнуть, как было у нас на свадьбе.
- Бабушка - не рыба! - подтвердил я, входя со своим неразлучным другом в комнату.
- К рыбе в гости я ни за что не пришел бы! - сказал, и опять мудро Эдик Сумасшедший. - Утонуть можно.
Бабушка порылась в фартуке, вытащила металлическую коробку леденцов в сахарной пудре «Монпансье», которая была всегда при ней, и угостила Эдика, угостила меня. Не со своих пальцев, а так, чтобы каждый из нас взял по своему разумению, но без жадности, и не пихал в рот, как суслик, за обе щеки.
- Мы тоже не с пустыми руками, - сказал Эдик. - Финичка вам сварганил подарок, глаз не оторвать. Будет в самый раз по цвету к дедушкиному платью, даже если он белый.
- Не белый! Нержавеющая половинка моя, отнюдь, не невеста, - пошутил потомственный жестянщик и протер прослезившиеся глаза, вспоминая давний день угасающего девятнадцатого века, когда за свадебным столом многочисленные гости кричали новобрачным «горько!».
- Не переживай, дедушка, за бабушку. Подумаешь, не невеста! Невесту я вам свою принес. Вот она - на фотке! - радостно доложил я, будто вернулся с оперативного задания с ворохом добытых военных тайн. И, нажав кнопку, раскрыл перед ним медальон. - Это для бабушки. На день рождения. Самый-самый женский подарок. Восемьдесят четыре года - не шутка.
- И тринадцать общих, слава Богу, детей…
- Ого! - восхищенно цокнул языком Эдик Сумасшедший и толкнул меня локтем в бок, мол, «знай наших!»
Дедушка близоруко сощурился, всматриваясь. И слезы на его глазах стали как-то крупнее, еще крупнее, и покатились по щекам.
- Сойба, смотри! - подозвал жену-старушку, почувствовавшую что-то неладное в его голосе. - Смотри! Смотри! Это же Сонечка...
- Какая Сонечка? - бабушка резко поднялась с табуретки, уронила коробку с конфетами, и полукруглые леденцы раскатились по полу, как заледеневшие слезинки.
- Сонечка Розенфельд, из твоей фамилии, что вышла за этого кузнеца-красавца Кравцова. Твоя племянница из местечка Ялтушкино.
- Но там всех убили, - еще не понимая до конца, что я принес весточку с того света, медленно прошептала бабушка..
Дедушка посмотрел на меня сквозь слезы.
Бабушка посмотрела на меня сквозь слезы.
- Откуда это у тебя?
Я не мог вразумительно ответить, меня тоже душили слезы.
Ответил Эдик Сумасшедший.
- От пленного фрица. Финичка - ему покушать, а тот ему - это…
- Убийца моих родных?
- Я не спрашивал, - Эдик Сумасшедший виновато посмотрел себе под ноги и, пятясь, вышел за дверь.
Ближе к вечеру, когда в бабушкиной комнате накрывали на стол, немцев повели под конвоем обратной дорогой: от гостиницы «Рига» на улицу Аудею, и дальше-дальше - к лагерю военнопленных.
Предоставленный сам себе, я сидел у раскрытого окна с взведенным револьвером 1917 года выпуска и высматривал в шаркающей по булыге колонне знакомую физиономию с утолщенным носом и морщинистым лбом. И не находил ее, будто она растворилось в сотне похожих, таких же невыразительных, но отнюдь не опасных на вид лиц.
И в этот момент кончилось мое детство.
Внезапно стало понятно, что, как и в боксе, я перешел в другую, более взрослую возрастную категорию. И об этом тоже стоит написать, а не садиться сейчас в тюрьму.
Облокотившись на подоконник, я смотрел на бодро шагающих по улице моего детства гитлеровцев. Смотрел и думал о плачущей на кухне в день 84-летия бабушке Сойбе. Она родилась в 1870 году - в семье раввина Розенфельда, и жила в Ялтушкино под одной крышей с братьями и сестрами почти до конца 19 века, пока не вышла замуж и не переехала в Одессу. А ее племянники и племянницы, их дети и внуки никуда не переехали. Крышей их вечного дома стала сырая земля, не сохранившая для потомков ни имен, ни фамилий. Ничего не осталось, только память сердца.
Сырая земля, ни имен, ни фамилий, только память сердца...
Через несколько лет в книге Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» я прочитаю об ужасающих подробностях уничтожения фашистами местечка Ялтушкино, гибели его жителей, а среди них и родственников бабушки Сойбы. А ее родственники… это… и мои близкие…
Если бы не Эренбург, если бы не его книга «Люди, годы, жизнь» я, наверное, многое упустил бы в своей жизни.
Илья Эренбург:
«Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):
«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»
РАЗВИЛКА «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
1
Бабушка Сойба, мама моего папы Арона, родилась в один год с В.И. Лениным. В 1870-ом. Но пережила даже Сталина. А когда Хрущев сказал в 1960-ом, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, она поняла: это не для нее, это она не переживет. И умерла.
Дедушка Фройка тоже родился в один год с В.И. Лениным. В 1870-ом. И тоже пережил даже Сталина. Он ушел в лучший из миров, когда во дворе, под окнами его квартиры, активисты из домоуправления готовились к политинформации о культе личности и разучивали вошедшую после ХХ съезда снова в моду песню старых большевиков, склонных к суициду:
«Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрём
В борьбе за это».
«Опять борьба. Опять за это. А за что? Чем такая жизнь, лучше...»
И сделал как лучше. Умер.
Произошло это в августе 1957 года.
«Чем больше мудрости, тем видишь дальше, - говорил дедушка Фройка, папа моего папы Арона. - Чем дальше видишь, тем ближе видишь смерть. А верь или не верь в Бога, все равно отдашь ему душу».
2
У дедушки Фройки и бабушки Сойбы было тринадцать детей. Все они родились до революции. После революции дети у них не рождались. После революции дети у них умирали. Один умер, второй умер, третий умер. Пережили революцию, Гражданскую войну, «чистки и паспортизацию» только пятеро. Маня, Клара, Бетя, Фаня, Арон. От остальных остались лишь имена в родительской памяти. Да рекомендации поэта Николая Тихонова на их счет: «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей».
3
- Имя? Отчество? Национальность? - спрашивала в сентябре 1952 года Евдокия Евгеньевна, классный руководитель Первого - «а» 67-ой семилетней школы города Риги, у застывших в напряжении за партами ребятишек с маленькой челочкой, на два пальца ширины, или стриженных наголо, как в тюрьме.
- Иван Иванович! Русский!
- Валерий Сергеевич! Украинец!
- Владимир Николаевич! Белорус!
- Имант Янович! Латыш!
Я был пятым по списку.
- Ефим... Аронович... Еврей...
Мне было почему-то неловко от полувопросительно повернутых ко мне голов, с челочкой, на два пальца ширины, и стриженных наголо, как в тюрьме.
«Гвозди бы делать из этих людей»
А из меня? Что? Заклепки?
Стояла осень 1952 года. Евреев а газетах называли «безродными космополитами», «наймитами Джойнта». И с намеком на пристрастие к некошерной пище слагали о них басни: «А сало русское едят».
4
Бабушка Сойба говорила:
- Умный человек не роет другому яму. Умный человек копает под себя.
- Почему?
Отвечал дедушка Фройка:
- Чтобы облегчить работу врагу. Когда ты копаешь под себя, ты облегчаешь работу врагу. Ему даже копать под тебя не приходится.
- Не понимаю.
- А чего тут понимать? - вздыхала бабушка Сойба.
И дедушка Фройка пояснял причину её вздоха:
- И не понимай. А запомни: это правило жизни дает тебе возможность знать своего врага в лицо.
Я кивнул, понимая из сказанного, что на лёгкую работу быстрее находятся охотники.
5
Миша Потапов, папа Жорки, моего начальника разведки, был баптист. Он любил всех на свете людей и животных. И евреев тоже.
За эту любовь его могли расстрелять.
Перед войной он сказал, что вера не позволяет ему взять в руки оружие, и не пошел в армию. Ему дали «белый билет», а к нему кликуху - «невоеннообязанный» и оставили в Оренбурге, тогда Чкалове, «колдовать» у верстака. Он работал слесарем высшего разряда на 245-ом авиационном заводе, переименованном в 1945 году, после передислокации в Ригу, в завод №85 ГВФ. Адрес - улица Анри Барбюса, 9.
Когда Миша Потапов вбегал к нам во двор на Аудею, 10 - а это всегда происходило под вечер, при возвращении с работы - он хватал меня в охапку. И будто бы путая с собственным сыном, радостно повизгивал:
- Жорочка! Жорочка!
Потом делал вид, что признал во мне меня самого, и говорил:
- Обознался! Прости, Фимочка. Вы так похожи, как близнецы-братья.
И впрямь! Мы были одного роста. Одного года рождения. Из одной родилки. Единственное различие - национальность. Но на лице она никак не отражалась. Оба блондины, оба голубоглазые.
Каждый раз Миша Потапов, возвращаясь с работы, путал меня с Жоркой и обнимал на глазах у всего двора, как родного сына.
Я считал, что он делает глупости по близорукости.
Но бабушка Сойба сказала мне:
- Не говори мне про глупости! Такие глупости сейчас, когда папу твоего объявили на заводе «вредителем», а нас всех «безродными космополитами», по близорукости делать не будут.
- Такие глупости по глупости не делают, - согласился с ней дедушка Фройка.
Он всегда соглашался с бабушкой Сойбой, иначе она посылала его за углем в подвал. А он уже был старенький и не хотел лишний раз туда ходить - ждал, когда я подрасту.
6
Мы жили в Риге, на Аудею, 10, в «жактовском», стало быть, «заводском» доме. Уволиться с завода - значило остаться тут же без квартиры.
Мы жили в доме, без всяких удобств. С печным отоплением. С плитой на кухне.
Единственное удобство, пожалуй, заключалось в том, что в доме не было чужих людей. Все, на какой этаж не поднимись, работники лучшего на свете завода №85 ГВФ. Этим мы, дети, очень гордились. А еще мы гордились, когда видели портрет своего отца на Доске Почёта.
Портрет моего папы Арона Гаммера висел на многих Досках Почёта города Риги. Оно и неудивительно, если вспомнить, что мой папа изготовлял опытную продукцию, экспериментальные образцы изделий, которые сам разрабатывал и внедрял в производство. В 1947 году его наградили Золотым Знаком «Отличник Аэрофлота» и внесли в «Золотую книгу почета Аэрофлота».
Папа не был директором предприятия. Не был главным инженером. Он был всего-навсего простой жестянщик. А, может быть, не простой, если его портреты вывешивали в центре Риги, если в 1947 году его занесли в «Золотую книгу почета Аэрофлота», если наградили Золотым Знаком «Отличник Аэрофлота», а в 1953-ем - первым из заводских евреев - назвали ни с того ни с сего «вредителем производства» и хотели арестовать и выслать вместе с семьей куда-то на Соловки или еще дальше.
7
Мы сидели на чемоданах. И ждали выселения.
Нам не было куда деваться - разве что на тот свет.
Бабушка Сойба спрашивала:
- Есть что-то новое насчёт погромов?
Дедушка Фройка отвечал:
- Насчёт погромов нет ничего нового. Сталин уже умер. А без него никто ничего не может знать.
Бабушка Ида, вторая моя бабушка, пришедшая к нам на Аудею вместе с дедушкой Аврумом, чтобы за компанию посидеть с нами на чемоданах, говорила:
- Когда мы в Одессе ничего не знали о погромах, они все равно сваливались нам на голову.
- Ша, евреи! - ворчал дедушка Аврум. - Гинук! Тише! Не говорите так громко за погромы. Иначе услышат посторонние люди и заинтересуются. А у меня интерес видеть вас до глубокой старости без происшествий.
По малолетству я не способен был проникнуться их переживаниями.
Я смотрел на них и тихо радовался.
Чему?
Радовался тому, что они живы и здоровы, а я - самый счастливый еврейский ребенок в Риге.
У меня были две бабушки и два дедушки.
Ни у какого другого еврейского ребенка в послевоенной Риге такого богатства не было, даже у моих двоюродных братьев Гриши и Лёни.
ВЕРА - СЛОВО - ЧЕСТЬ
“Льются по улицам потоки слез, льются потоки детской крови, - эхом доносится до меня из глубин веков старая еврейская песня. - Младенцев отрывают от хедера и одевают в солдатские шинели. Наши же общинные заправилы помогают сдавать их в рекруты”.
Может быть, сегодня я единственный человек на Земле, слышавший некогда, в марте 1953 года, через сто с лишним лет после создания, эту песню. В оригинале, в доисторической, стало быть, подаче. На идише.
Правда, идиш, для меня в ту пору повседневный, был какой-то иной, с жалостливой хрипотцей, ветхозаветный что ли, хотя в природе такого и не существует, ветхозаветный - иврит. Судьбинную песню своих родителей напевали под траурную музыку смерти Сталина, скучно текущую из радиоприемника, мои бабушка Сойба и дедушка Фройка.
Бабушка Сойба, тогда уже вечная для меня старушка. Худенькая, сморщенная. Но все помнящая. И все знающая. Наперед. Это в тот день она сказала всем нам: “Дети мои! Мы умрем здесь и будем похоронены на Рижском еврейском кладбище. А вы будете жить в Израиле и увидите Иерусалим.”
Дедушка Фройка, толкователь Торы и жестянщик, знаменитый еще в девяностых годах позапрошлого века кровельным мастерством от Одессы до Кракова. Это он крыл островерхие крыши и маковки польских костелов и православных церквей, подняться на которые и сегодня не у каждого хватит духа.
По радио передавали траурную музыку. Где-то в Москве хоронили Сталина. А бабушку Сойбу сподвигло на песню о кантонистах. А дедушку Фройку на подпевку ей. Речитативом, сидя у радиоприемника, неподалеку от окна во двор, держа на коленях толстенный молитвенник в кожаном переплете.
- Лишь бы не было погрома, - говорила бабушка Сойба, провожая Сталина в последний путь. Она пережила тринадцать погромов. Но четырнадцатого, обещала, не переживет.
- На кого ты нас оставил? - обращалась она в Мавзолейную непроглядь. - Вся твоя милиха - курва, блядь, гонев. Я родила тринадцать душ детей, по числу погромов. Живыми до взрослой жизни выжили пять. Маня. Бетя. Клара. Фаня. Арон. Где остальные? Посмотри сейчас своими незрячими глазами - где? И спроси у них - почему они тебя Там дожидаются, а не провожают тебя Здесь? Они жили до тебя. И могли жить позже. Но не живут. Спроси у них - почему?
В свои семь лет я понимал все бабушкины слова. Милиха - власть. Курва, блядь, гонев - это Сталинские министры. В школе их называли - “пламенные большевики”. Потому что в школе говорили на русском, а не на идише. Мне же в школе тоже не разрешалось говорить на идише. И очень хорошо, иначе бы я открыл рот и сказал. Дальше... Нетрудно представить, какую Москву показали бы мне за уши.
“Младенцев отрывают от хедера”, - горестно пела бабушка Сойба.
“Наши же общинные заправилы помогают сдавать их в рекруты”, - подпевал, вздыхая из-за астмы прилипчивой, наверное, дедушка Фройка.
Мне же в раннем детстве очень хотелось быть солдатом. Мои любимые фильмы той поры “Корабли штурмуют бастионы” об адмирале Ушакове, трофейный “Одиссея капитана Блада”, о докторе по призванию и бесстрашном пирате Карибского моря по вине обстоятельств, и “Звезда” - по одноименной повести Э. Казакевича о советских разведчиках, с героическим Крючковым, подрывающим себя в финале противотанковой гранатой вместе с ненавистными захватчиками.
Поэтому, из-за предрасположенности, должно быть, к армейскому приволью, меня и проскваживало недопониманием от слезливости песни о мальчишках, которых хитроумные “ловчики” выманивали из молитвенных учреждений, типа начальных школ, и выводили на простор ратной жизни, штыкового боя и сабельной рубки, когда или грудь в крестах, или голова в кустах.
О своей белобрысой голове я тогда не думал. Я думал о груди. И мне казалось, что она будет в орденах уже новой выпечки.
Я и представить себе не мог, что старший из близких родичей моего дедушки Фройки, не думая, конечно, ни о каких крестах, был тайно похищен в моем приблизительно возрасте. Ему, как и другим погодкам-единоверцам, запретили переписываться с семьей. Затем обратили в христианство, дав фамилию по отцу. Допустим, Арн, Арнов, или на иностранный, более модный лад, французско-итальянского звучания Арнольд, Арнольди. И отправили полями сражений сквозь историю русских войн. Храбрость его была безупречна, мужество без изъяна. Его обучили в юнкерской школе, произвели в офицеры, и дали рост чинам и званиям. Он командовал ротой, батальоном, полком. А когда вышел в генералы, выхлопотал отпуск и отправился в город Бар, что в Подольской губернии, в зоне черты оседлости. В родной свой Бар, где надеялся отыскать отца своего Арн-Берш Гаммера, мать свою, кровинушку-любу, братьев своих меньших и сестер, всех своих - вырос ведь среди чужих! - вот и искал всех своих, от коих некогда, на раннем переходе к отрочеству, отлучили его злые люди - ловчики поганные.
Генерал Арн - (фамилия могла быть и Арнольд, Арнольди) - ехал с дородной супругой в рессорной коляске по шершавой мостовой и пытливо вглядывался в неказистые дома, пытаясь памятью сердца увидеть свой дом, милый с рождения.
За коляской бежали дети. Эти чудесные, неиссякаемые в любопытстве дети, в пейсиках и лапсердаках, знающие все про всех и всех во всем их отличии: от самого нищего в округе “неунывного Мойшеле”, до самого что ни на есть - “упакованного невроко” - сахарозаводчика Бродского.
О чем думал генерал после долгой, отзванивающей в копилке годов, поди, червонцами, походной жизни, когда проскваживал захудалую еврейскую улицу взглядом бывалого человека, ходившего и за кордон? И какими словами думал, не Лермонтовскими ли, обращенными к себе самому? “Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри - не вы! Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля...”
Что ему вспоминалось? Русско-турецкая война? Бросок в Болгарию - на помощь братьям-славянам? Невероятная по лютости зима на Шипке?
О, эта зима! Русские ратники погибали не от ранений, не от вражеских пуль. Всего семьсот бойцов пало в схватках с турецкими янычарами. Остальные - а их тысячи - умерли в снегах от переохлаждения. Мороз-союзник впервые превратился для них в недруга. Но это не остановило “солдатушек, браво-ребятушек”. И они двинулись через перевал. Пушки оскальзывались, не катились в гору, драли кожу на ладонях, сквозь меховые рукавицы. Бомбардиры взмолились начальству: “Не можем на руках тащить вверх по снегу орудия!” Начальство откликнулось на мольбы неумолимым: “Не можете на руках, взгрызайтесь в пушки зубами! Зубами и поднимайте!” И они взгрызлись зубами в чугунные пушки и подняли их в горы. Подняли и разгромили турецких пехлеванов. Разгромили турецких пехлеванов и с налету могли, как им представлялось, взять Стамбул. Ярости и чувства мести хватало. Мужества и смелости им было не занимать. Но из Генеральной Ставки последовал приказ: “Отставить!” И они отставили свой наступательный порыв.
О чем думал старый-престарый Арн-Берш Гаммер, прознав, что по главной улице родного городка катит коляска с его блудным, пусть и не по собственной воле блудным сыном, облаченном в богатый мундир с золотыми эполетами? И какими словами думал? Вряд ли Лермонтовскими. Но может быть, все может быть, если незряче оглядываешься ровно на сто двадцать лет назад, в 1883 год... “Скажи мне, ветка Палестины: Где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины Ты украшением была?”
Мне эти слова запомнились с детства, с той поры, когда я еще не читал и по слогам. Запомнились от папы Арона, они звучали в его устах как бы аккомпониментом к этой истории - истории его дяди - генерала. Да и генерал ли? Кто из тех евреев украинского местечка разбирался в офицерских званиях? Однако память у них была отменная. В памяти они сохраняли все до мелких деталей, до каждой буковки Торы. Вот и сохранили, включая и генеральское величие. И до меня донесли. А что до звездного отличия, то - честно признаюсь - лично мне не важно: был ли он генералом, полковником, либо иным воинским чином. Главное, что - несомненно - был, отважно воевал, и поливал землю-матушку своей еврейской кровью. Кровь - то у него родовая, еврейская, в какую религию ее не обрати! Правда, это уже не относится к его потомкам. Люди они, по всей вероятности, русские. Живут где-то в России. И наверное, если помнят старое воинское правило - “Честь никому!”, берегут не хуже его, своего прадеда по роду, а по крови еврейской и моего, славу русского оружия. Но это мысли мои. А не старого-престарого Арн-Берш Гаммера. Он думал о другом. И скорее всего, о вековечном: “Лишь бы не было погрома!” Почему - погрома? Потому что сына своего, будь он генерал, полковник или кто иной, он возвратить в лоно семьи не имел права. Сын его принял, пусть насильно, пусть даже неосознанно, но принял христианство, и тем самым предал дом родной, веру и жизнь еврейскую. А вера и жизнь еврейская подвергались в те кровавые - восьмидесятые - всяческому притеснению и осквернению.
Обратимся лицом к эпохе. 2 апреля 1879 года свободолюбец Соловьев из организации “Земля и воля”, имеющий замашки Робин Гуда, но отнюдь не столь меткий, стрелял в царя Александра Второго. В Петербурге. У Зимнего дворца. Стрелял с расстояния в пять метров. Три раза подряд. И все - мимо. Царь повернулся к нему спиной, и побежал от смерти. Соловьев кинулся за ним, продолжая пулять по живой мишени. Промах-промах! Наконец, попал. Но в полу шинели. Дырка в царской шинели обернулась для него казнью через повешение.
А для евреев? Для евреев погромами.
1 марта 1881 свободолюбцы, подобные Соловьеву по отчаянному героизму и меткости, таки достали Александра Второго. Император был убит взрывом бомбы, по теперешним временам, вульгарно, как обычный еврей в Израиле начала двадцать первого века. Но не первой бомбой, брошенной в карету, его поразило, а второй, когда он вышел из кареты наружу, чтобы полюбопытствовать, какой вред нанесен ей, передвижной обители его.
Смерть царя была горем для русского народа.
Горе русского народа евреи, как обычно, оплакивали своей кровью.
Славянофил Иван Аксаков писал в газете “Русь”, что погромы - это месть народа.
Попробуем наложить на славянофильские обоснования кровопускания другие, так сказать, революционные, данные под вопли и плач моих соплеменников печатным органом народовольцев “Народная воля”. Читаем. “Нет никакого основания относиться к погромам не только отрицательно, но и безразлично. Это чисто народное движение. Народ громит евреев вовсе не как евреев, а как жидов, эксплуататоров народа”.
Мало того, что обозвали, заодно причислили местечковую голытьбу к капиталистам-притеснителям. Что из этих характеристик следует? А вот такая, показательного рода, заметка: “Московскому телеграфу” сообщают из Елисаветграда следующие подробности происходящего там столкновения между народом и евреями (“выделено в тексте”, - подтверждает Нелли Портнова, составительница сборника материалов по истории русского еврейства 1880-1990-х годов “Быть евреем в России”). “Задолго еще до Пасхи, - говорит корреспондент, - в городе ходили упорные слухи, что на праздниках “будут бить жидов” не только в Елисаветграде, но в Одессе и других городах на юге. Евреи обращались с просьбою о защите к начальнику дивизии, живущему в городе, и, кажется, он обещал сделать все от него зависящее”.
Слух да дело... А теперь взглянем на последствия слухов, когда они обернулись делом. Пишет очевидец событий Гирш Мексин. “19 апреля, 8 ч. 40 мин. пополудни. Елисаветград. Дома и лавки почти всех евреев города Елисаветграда разбиты и разгромлены 15 и 16 апреля бушевавшею толпою черни, несколько тысяч несчастных нуждаются в дневном пропитании. Спасите, ради Бога, от голодной смерти открытием повсеместного приема пожертвований”.
Я спрашиваю из глубин дня сегодняшнего: “За что? За что и почему всякое-разное словоблудие? Единственное, что исторически понятно - это наукообразное превращение евреев в “жидов” является преамбулой, вернее паролем, самого простого и житейского - “сейчас будут бить и вынимать кишки”. И, действительно, все в мире проще: ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать
“За что?” - спрашивал и старый-престарый Арн-Берш за сто сорок лет до меня. Но должно быть, не столь риторически и не столь рассудочно. Сердцем спрашивал. Кровью, набухшей в венах, спрашивал. Смертью родных и близких спрашивал. Ответом же ему служили довольно невнятные по нынешним меркам слова Салтыкова-Щедрина, правда, прозвучащие сразу же после страшных в своей беспощадности погромов 1881-1882 годов и отдающие соучастием и душевной болью защитного свойства: “История никогда не начертывала на своих страницах более мучительного вопроса, чем вопрос еврейский”.
“Мучительный вопрос” разрешался в империи однозначно - погромами и репрессиями. Гибелью ни в чем не повинных людей и антиеврейскими постановлениями: при Александре Третьем издано 36 указов, при Николае Втором еще 50.
Арн-Берш Гаммер не мог в 1883 году признать в русском генерале своего сына. В ушах еврейского патриарха стояли еще стоны и мольбы других его детей и малолетних несмысленышей-внуков, многочисленных однокровников генерала, убиваемых под крики “Бей жидов! Спасай Россию!” Убиваемых его братьями и сестрами по вере.
Арн-Берш был еврей. И дети его были евреями. Старший сын его перестал быть евреем, став христианином. И Арн-Берш, убедившись в этом, перестал считать себя отцом собственного сына, для него - вероотступника...
Поэтому по сей день мы, его потомки, не знаем подлинной фамилии и подлинного имени генерала. Может, был он Гаммеров, как лейтенант-заключенный из “Архипелага ГУЛАГ” А.И. Солженицына. Может быть, видоизменил имя отца Арн на фамильный лад, и стал Арнольд или Арнольди, созвучным со многими старшими офицерами русской армии того времени.
Может, да. Может, нет.
Может, перепутали что-то очевидцы, и был он не генералом, а чином поменьше. И этого мы не знаем. Каким-то образом скрыто это для нас. Не повелением же свыше? Хотя пути Господни неисповедимы, и вполне возможно вычеркнуто это именно повелением свыше из нашей династической памяти.
Арн-Берш не принял своего сына, вернувшегося в отчий край с полей сражений. Формула жизни солдата “Вера - Господу нашему Иисусу Христу, жизнь - царю, честь - никому!” разбивалась в его душе о первые слова древней и каждодневной еврейской молитвы “Шма, Исраэль!”
“Шма, Исраэль! - Слушай, Израиль!”
“И возлюби Господа, Б-га твоего, всем сердцем, и всей душой твоей, и всем достоянием твоим. И будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, на сердце твоем...
“Шма, Исраэль! - Слушай, Израиль!”
Что к этому добавишь? Пожалуй, ничего…
Но, блуждая по Интернету, я обнаружил крайне любопытную, думаю, не только для себя заметку. Она и послужит дополнительным штрихом к моему тексту. Вот она, с незначительными сокращениями.
ГЕНЕРАЛА ИЗОБРАЗИЛИ РАВВИНОМ
Моисей Львович Маймон, известный художник и второй в России еврей, избранный академиком петербургской Академии художеств, особенно прославился картиной «Марраны» (1893 г.), копии которой висели в прошлом столетии во многих еврейских домах. Среди изображеных на полотне центральное место занимает седобородый старец-раввин необычайно достойной и благородной внешности.
Не так много, однако, людей знало о том, с кого писан этот старец. А позировал художнику генерал-лейтенант от артиллерии Арнольди, с которым Маймон встретился в одном из петербургских домов. Маэстро хватило одного взгляда, чтобы понять: вот именно то, что нужно для картины. Желания своего он не таил и запросто попросил генерала позировать. Вопреки опасениям художника, его превосходительство не только согласился, но согласился с большой охотой, что со стороны русского генерала было, прямо скажем, неожиданно. И во время долгих сеансов позирования генерал разговорился. И не о чем-нибудь разговорился, а о своей тоске по еврейскому. Ибо блистательную воинскую свою карьеру начинал кантонистом, тем самым малолетним солдатом.
Крестился он сразу. А вот тоска по языку, по родным лицам и привычкам сохранилась.
СУДЬБА АКТЕРА
В 2023-ом году исполняется 130 лет со дня рождения великого еврейского актера, режиссера, драматурга Файвиша Львовича Аронеса, создавшего образы Тевье-молочника, Менахема Мендла и другие, ставшие в свое время классикой еврейской сцены. Его пьеса “Аристократы и люди” некогда была украшением еврейского театра “Артеф” в Нью-Йорке. Он переводил стихи Самуила Маршака на идиш, делал инсценировки по рассказам Шолом-Алейхема и Чехова, снимался в некоторых советских фильмах тридцатых годов. А задолго до этого с 1914 года сражался на фронтах Первой мировой войны, был награжден Георгиевской медалью «За храбрость», потом тяжелое ранение, лечение в госпитале Санкт-Петербурга, возвращение к артистической деятельности. И как “положено” по роли, в 1949 году, в пору разгрома еврейской культуры, оказался в сталинских лагерях. К счастью, он не погиб на промороженных пространствах ГУЛАГа. Он умер в Израиле в 1982 году, незадолго до своего девяностолетия, оставаясь преданным сцене до последнего дня жизни. За свою артистическую деятельность в Израиле Файвиш Аронес был награжден золотой медалью Бней Брака, а статья о его творческом пути была опубликована в Американской энциклопедии театра.
С Файвишем Аронесом я породнился в Риге, когда моя старшая сетра Сильва вышла замуж за его сына Майрума. Это было в 1960-ом году, вскоре после его освобождения из лагеря. Он был осужден на 10 лет за националистическую и сионистскую деятельность. Но вышел на свободу досрочно.
Тогда старый актер и подарил мне странную - для подростка, пишущего стихи, но отнюдь не мечтающего о театре, книгу “Инсценировки рассказов А.П. ЧЕХОВА”, в переплете серого, видавшего виды картона, изданную в 1951 году. На внутренней обложке фиолетовыми чернилами, с нажимом, была сделана надпись “Книга Ф.Л. Аронеса”. Откроем выжившую на пересылках книгу сегодня и прочтем такие слова из предисловия народного артиста СССР В. Топоркова: “Если со стороны актерского исполнения инсценировки рассказов А.П. Чехова будут хорошо подготовлены и тонкое исполнительское мастерство будет налицо, то отсутствие сложных декораций и различных театральных аксессуаров не имеет почти никакого значения. В большинстве своем инсценировки Чехова очень удобны для исполнения в смешанных концертах”.
Концерты, которые ставил Файвиш Львович на лагерной сцене, были и впрямь смешанными. И, может быть, поэтому рекомендации заслуженного Топоркова не казались столь издевательскими, хотя “отсутствие театральных аксессуаров” наблюдалось полнейшее. Наряду с маститыми профессионалами сцены в “Чеховских представлениях” участвовали и обычные лицедеи жизни - аферисты, бандиты, воры в законе. Так что “тонкое исполнительское мастерство” было обеспечено от пайки до пайки, пока действующие лица и исполнители не передохнут с голодухи.
Знакомясь с книгой инсценировок рассказов А.П. Чехова, я мало-помалу сближался и с Файвишем Аронесом. Я видел его старые афиши, переведенные им на идиш книги, альбомы с рецензиями и пожелтевшими фотографиями: он с друзьями, еврейскими актерами и писателями. Читал он мне и свои стихи, написанные на идиш - на родном языке моих дедушек и бабушек, моих родителей, которые некогда, еще при советской власти, учились в Одессе - в еврейской школе. Однажды он прочитал мне на идиш стихи, в которых я каким-то чудом угадал ритмы поэмы Самуила Маршака «Мистер Твистер». И сам того не замечая, машинально стал синхронно за ним повторять:
Есть
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука
И вы захотите
Увидеть мир -
Остров Таити,
Париж и Памир, -
Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле
Приготовит каюту,
Или прикажет
Подать самолет,
Или верблюда
За вами
Пришлет.
Даст вам
Комнату
В лучшем отеле,
Теплую ванну
И завтрак в постели.
Горы и недра,
Север и юг,
Пальмы и кедры
Покажет вам Кук.
Файвиш Львович, дочитав на идише эти строчки до конца, улыбнулся и сказал то, что мудрый Самуил Маршак хитроумно приспособил для эпиграфа к «Мистеру Твистеру»:
- Приехав в страну, старайтесь соблюдать ее законы и обычаи во избежание недоразумений… Из старого путеводителя.
- А в каких странах вы побывали на гастролях? - спросил я.
Актер задумчиво потер переносицу:
- Приглашали во многие. Но я был невыездной. Вместо меня за границей побывала эта моя книжка.
И дал мне полистать единственный оставшийся у него экземпляр «Мистера Твистера» на идише с вложенным в него, между страниц, благодарственным письмом от Самуила Маршака, который тоже прекрасно знал «маме-лошн». Письмом за «блистательный перевод».
Поэма Самуила Маршака «Мистер Твистер», переведенная Файвишем Аронесом на идиш и выпущенная в свет в тридцатых годах в Минске государственным белорусским издательством, стала своего рода визитной карточкой для многих советских делегаций в зарубежных странах, когда они посещали еврейские общественные центры.
Постепенно передо мной вырисовывался образ человека Возрождения - актера, драматурга, режиссера, а в дни военных испытаний и отважного воина. На Первой мировой, призванный под знамена русской армии, он воевал от звонка до звонка, за храбрость был награжден Георгиевской медалью, дважды был ранен, лежал в Петербургском лазарете. А в шестидесятые стал одним из первых, кто начал возрождать еврейскую культуру в Латвии.
Когда-то, в начале 20 века, он ушел с группой бродячих еврейских актеров из Двинска (Даугавпилса), где родился. С тех пор Файвиш Аронес, ученик знаменитой Эстер Рохель Каменской, никогда уже не покидал сцены, исключая время, проведенное на фронтах Первой мировой, в госпиталях и сталинских лагерях. Впрочем, и это не совсем верно. Он и на войне умудрялся не забывать о своем артистическом призвании. И в лагерях. Свидетельством тому томик инсценировок чеховских рассказов, которым он пользовался. Представьте себе, что испытывали люди, сидящие в насквозь промерзшем бараке - зрительном зале, когда перед ними выступал Файвиш Львович. Представили? Ну и смейтесь дальше - непременно согреетесь. В особенности, если представите себе заодно, что там же, под завывание вьюги, он сочинял солнечные стихи на идише и, не доверяясь даже крохотному листочку бумаги, держал их годами в памяти - так и вынес на свободу, обманув самые тщательные шмоны.
В 1935 году, увлеченный идеей развития еврейской культуры именно в Еврейской автономной области, не в какой-другой - Ханты-Мансийской, например, он распростился с Харьковским еврейским театром, где, как и незадолго до этого в Минске, снискал широкую популярность, и уехал в Биробиджан. К тому времени на его творческом счету были такие значительные роли, как Тевье-молочник и Менахем Мендл. Его пьеса “Аристократы и люди” с успехом шла не только в Советском Союзе, но и в Нью-Йорке, что, конечно, припомнили ему потом на допросах.
Во время Второй мировой войны Файвиш Аронес поставил в Биробиджане спектакли, в которых можно было встретить целое созвездие талантливых еврейских актеров.
А дальше? Легко себе представить, как развивалась бы его творческая жизнь в свободной стране. Но Аронес в такой стране не жил...
“25 мая 1948 года в Биробиджане по просьбе зрителей был поставлен “Тевье-молочник”. Заняты в нем были все ведущие артисты театра, - пишет очевидец в газете “Община”. - На премьере зрители долго не отпускали со сцены Ф. Аронеса, Б. Шильмана, М. Карлоса, Н. Хаит, М. Штейна, Э. Теплицкую, В. Коган.
Зрители видели на сцене человеческие страдания не в театральной схематичности, а беспредельности живой жизни. Публика плакала. Но плакали люди слезами волнения и благодарности замечательному актеру и изумительному режиссеру Ф. Аронесу, который силой искусства сумел поднять человека до высот подлинного восторга. Ему удалось создать страстный, волнующий спектакль, обращенный к будущему.”
Однако будущее смотрело на Файвиша Львовича через зрачок одиночной камеры. 5 октября 1949 года артиста арестовали, “чтобы не выступал”, так сказать.
Послушаем его сына Майрума Аронеса. “К тому времени, когда начались антиеврейские репрессии, отец был человеком, уже известным не только в своем театре, но и в области. Он пропагандировал все еврейское - песни, книги, спектакли. И конечно, первый удар пришелся по нему и по тем писателям, которые там жили. Отца арестовали 5 октября 1949 года. Как это происходило?
Майрум протянул мне лист бумаги: «Я все описал подробно».
Прочитаем его рассказ о тех событиях.
УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Завтра в школу. Я начал складывать учебники в сумку. Мама готовила ужин, а папа пошел в сарай за дровами. Было около 9 часов вчера. Начало октября 1949 года, а точнее - 5 октября.
В Биробиджане в это время года уже довольно холодно, и папа хотел затопить печку.
Обычный осенний вечер: собирались поужинать и лечь спать.
Неожиданно в дверь резко постучали. Мама открыла и увидела на пороге двух мужчин и одну девушку.
- Мы должны проверить ваши паспорта. А где хозяин? - спросил коренастый мужчина.
- Мама ответила, что папа пошел за дровами.
- Вскоре появился папа с охапкой дров.
- Увидев незнакомых людей, спросил, ничего не подозревая:
- В чем дело?
Коренастый представился:
- Я капитан МГБ Лобашов. Мы должны произвести у вас обыск и вас арестовать.
У мамы подкосились ноги, она тяжело опустилась на стул - внутри все оборвалось.
Папу отвели в столовую, маму к нему не пустили.
Мне же, 12-летнему сыну, разрешили подойти к папе. Я сел к нему на колени и обнял его.
Папа шепнул мне на ухо:
- Запомни адрес моих родных - Рига, улица Пушкина, 1, квартира 63. Цын Груня.
- Гебисты в спальне производили обыск и не обращали внимания на меня и папу. В доме все перевернули, искали литературу на идиш. Ведь в то время уже были арестованы поэт Перец Маркиш, писатели Давид Бергельсон, Дер Нистер, актер Бениамин Зускин, закрыт Московский ГОСЕТ (еврейский театр), убит Шлойме (Соломон) Михоэлс. В Биробиджане были арестованы поэтесса Люба Васерман, редактор газеты «Биробиджанер штерн» Фридман, руководители Еврейской автономной области Бахмутский, Зильберштейн и другие.
При обыске у папы нашли письмо от Михоэлса, с которым его связывала творческая дружба. А при виде томика стихов Переца Маркиша, капитан КГБ (тогда МГБ) язвительно произнес:
- Что, Перчика читаешь?
После окончания обыска маме сказали:
- Можете собирать вещи в дорогу для арестованного.
Мама трясущимися от страха руками начала складывать рубашку, носки и прочее.
Я был полностью подавлен.
Мир счастливого детства рухнул.
Папу увели, я с мамой смотрели в окно на удаляющуюся фигуру папы в окружении гебистов. Лишь в 1956 году его освободили, и то потому, что после разоблачения культа личности Сталина начали выпускать из тюрем ГУЛАГа политзаключенных. Но 5 октября 1949 года врезалось в мою память. Ведь украденное и раздавленное детство никогда не вернешь.
Майрум Аронес не видел отца до 1956. Он сидел в лагерях строгого режима, носил арестантскую робу в полоску, с номером на груди, без имени. В самые тяжелые моменты вес его доходил чуть ли не до сорока килограмм, выглядел он, понятно, как живой труп.
В канун пятой годовщины со дня трагической гибели Соломона Михоэлса в газете “Правда” была напечатана статья про “убийц в белых халатах”. Номер газеты с этой статьей дошел окольными путями до заключенных “Сибирлага №0-33”.
В этот день, читая тайком “Правду”, они поняли: им всем вынесен смертный приговор.
Фвйвиш Аронес
СУДЬБА
Минск мой, безмолвная груда камней,
Груда могильных плит.
В городе мертвых утраты больней -
Шлойме Михоэлс убит.
Город безмолвных могильных плит
Страхом насквозь продут.
Камни безмолвны, но сердце кричит
В надежде на Божий суд.
Но много ли проку в надежде той,
Если она слепа?
Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой
Стала твоя судьба.
Перевод на русский язык Ефима Гаммера
Это стихотворение, переведенное впоследствии мною с идиша, было написано Файвишем Львовичем тогда, страшным январем пятьдесят третьего года, сразу же после прочтения погромной статьи в “Правде”.
В ту невероятно тяжелую пору, оглушенные смертоносной словесной атакой главной газеты страны, ни старый еврейский актер Аронес, ни его солагерники Иосиф Бергер - Барзелай, бывший лидер компартии Палестины, ни раввин города Проскурова Шалом Носем Маргулис да и другие евреи-заключенные, не могли и помышлять о том, что годы спустя судьба уготовит им встречу в Израиле. Они предполагали: в ближайшем будущем их ждет физическое уничтожение и что, может быть, в последний раз им дано отметить скорбную годовщину со дня гибели Соломона Михоэлса.
Ночью, после развода, забившись в дальний угол, они, уверенные в близкой смерти, провели вечер памяти Соломона Михоэлса. 15 человек, представлявших собой осколки еврейской культуры, как бы повернули время вспять и вновь, назло смерти и палачам, ощутили себя живыми людьми. Звучали стихи, монологи из спектаклей и снова стихи, написанные Файвишем Львовичем за колючей проволокой.
Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой,
Стала твоя судьба.
Эти строки читал Файвиш Аронес. И тогда к нему подошел православный священник, отец Николай, старый лагерник, лет восьмидесяти с лишним, страдающий за веру. Он сказал так: “Братья мои, евреи! Если Сталин пошел против вашего вечного народа, помяните мое слово, он обречен. Потому что ваш Бог не оставит его без наказания”.
Это было 13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня гибели Соломона Михоэлса, менее чем за два месяца до смерти Сталина, за три года до реабилитации Файвиша Аронеса.
“Выжить ему помогала душевная сила, - рассказывает его сын Майрум. - Он мне говорил: “Погибну я или нет, но внутри у меня есть то, что они отобрать не могут. Мой Израиль”. И это придавало ему стойкости, иначе он не дожил бы до освобождения”.
В 1972 году Файвиш Аронес наконец-то оказался в Израиле.
И сразу же вернулся к артистической деятельности. Вместе со своей женой Бертой (Беллой) Аронес, еврейской певицей, он выступал на израильских подмостках.
Их концерты пользовались большим успехом. Дело в том, что зрители не только знали Файвиша Львовича, но и помнили памятью сердца замечательную певицу Берту Аронес, блиставшую на сцене в тридцатых-сороковых годах, до ареста мужа. Свою музыкальную деятельность Берта Аронес начала в Ленинградской капелле под управлением Мильнера. А потом, выйдя замуж, переехала из Ленинграда в Биробиджан. Она была певицей и актрисой в Биробиджанском еврейском театре, много выступала с песнями по радио. Во время войны неоднократно выезжала с шефскими концертами на фронт. В ее репертуаре были еврейские, русские и белорусские песни, пользующиеся в ее исполнении заслуженным успехом у публики. И это лишний раз подтверждалось в Израиле, когда она выступала вместе с мужем в разных городах нашей страны.
В Израиле их творческий и жизненный путь подошел к своему логическому завершению. Незадолго до смерти Файвиш Львович выпустил в свет на языке идиш книгу лагерных стихов, написал историю Биробиджанского театра, рукопись которой хранится в Тель-Авивском университете. Его не стало 27 августа 1982 года, когда ему исполнилось 89 лет. Сколько из них - артистических? Думается, все. Ибо артисты рождаются и умирают на подмостках. То же можно сказать и о его жене Берте Аронес, прожившей, как и он, очень долго и трудно на сцене театра жизни. Может быть, и тот мир - театр, а души людские в нем актеры.
ПОДНИМИТЕ ГЛАЗА ОТ ПЕЧАЛИ
Незадолго до отъезда в Израиль, покидая без надежды на встречу друзей своих, я написал такие строчки:
“Поднимите глаза от печали.
Взвейтесь в небо, оставьте жнивье.
Мы сегодня свое откричали.
Завтра вы откричите свое.”
И вот передо мной книга “Поднимите глаза”. Подзаголовок “Шма, Исраэль”. Составитель Цви Патлас - человек, известный мне, почитай, с 1979 года. Мы познакомились в центре абсорбции Гило, где жили по соседству, в то незабываемое время первичного восприятия Израиля, когда наши глаза, тая в сетчатке своей еще контуры родных городов Риги, Одессы, Москвы, поднимались к небу над Святой Землей, к непостижимо мистическому небу, соединяющему нас и с царем Давидом, и с Маккавеями и с Бар Кохбой.
Всем нам надо было учиться ту пору постижению собственного “я”, не галутно-еврейского, уступчивого, податливого давлению сапога, а израильскому, в нашем, конечно, представлении, сформированном после Шестидневной войны и войны Судного дня. Это было не перерождение одного человеческого существа в другое. Это было обретение самого себя, опять-таки по нашим тогдашним представлениям.
Каждому ясно, ни начальних школ, ни высших учебных заведений по переустройству хромосом подневольного человека из тоталитарного государства в свободного и живущего по демократическим порядкам ни тогда, да и по сей день, в Израиле не существовало. Приходилось проходить обучение самостоятельно, путем проб и ошибок.
На этом пути вспоминались, выходя из закрытых прежде на замок запасников, какие-то слова на идиш, канторские мелодии, давнее предощущение праздника, когда, разнаряженный, собирался с дедушкой в синагогу. Вспоминалось все то, что в мельтешении буден и стремлении стать как все, было выбито из нас на пионерских сборах, на армейских стрельбищах, в казармах и в университетских аудиториях.
Цви Патласу было легче и проще. В Израиль он приехал в кипе и ему не требовалось душевно напрягаться, чтобы перейти по мировоззренческому мосту из недавнего прошлого в настоящее, настоенное на исторических хрониках. Он этим жил. Как, впрочем, и положено это религиозному еврею, одухотворенному воплощению десяти заповедей и ежедневной, повторяющейся из века в век молитвы “Шма, Исраэль!”
Читаем в книге “Поднимите глаза”: “Слушай, Израиль! - эти слова сопровождают еврея всю его жизнь, с самого рождения. Что же такое “Шма, Исраэль”? Молитва? Пароль? Символ веры? В чем важность этой заповеди? Как нужно ее исполнять? В чем смысл каждого слова? Мы постараемся ответить на эти вопросы.”
... Когда Цви Патлас подарил мне книгу “Поднимите глаза”, он сказал: “Напиши о ней.” И предвосхищая мои сомнения, естественные для человека, не связанного глубоко с исполнением традиций иудаизма, поспешно добавил: “Она для таких как ты...”
Поэтому я и размышляю над книгой, а не пишу рецензию...
Пусть я не раввин, не студент йешивы, не толкователь Торы, но я из тех, кто в раннем дестве, лет с пяти-шести, ходил по субботам с дедушкой Фройкой в Рижскую синагогу или стоял возле него дома на утренней молитве и следом за ним произносил “Шма, Исраэль!”
Мне и по сей день помнится, как дедушка повязывал кожаными ремешками тфилин на лоб и кисти рук, как открывал молитвенник и начинал нараспев произносить какие-то загадочные слова. Но они - удивительно! - мне были тогда понятны: “Эйл Мелех Неэмон. Шма, Йисроэил! Адойной Элойгейну, Адойной эход.”
Мне помнится и другое, секретное по меркам Сталинской эпохи. Как дедушка Фройка показывал мне свернутый в трубочку нетленный, желтоватого оттенка список и, разглаживая его ладонью на белой скатерке стола, надиктовывал имена предков, от моего отца Арона до царя Давида. Эти имена следом за дедом повторял и я, отталкиваясь от первого, правильнее сказать, последнего в списке - своего.
В классе, в Первом - А 67 семилетней школы я, разумеется, не упоминал о своем внеклассном чтении. И без того Евдокия Евгеньевна получила из-за меня втык, о чем она и рассказала моей маме, прося ее прекратить мои хождения в синагогу. Иначе меня, религиозного мальчишку и хулигана при том, не примут в нужный срок, во втором классе, в пионеры. За давностью лет вина моя, полагаю, анулируется. Честно признаться, эта просьба была выполнена со значительным опозданием, спустя пару лет, хотя исходила от самой красивой на свете учительницы, в которую мы все, первоклассники, были влюблены и полагали, что, когда вырастем, женимся на ней, непременно.
Помнится мне и иное. Как вскоре после визита к нам Евдокии Евгеньевны, в самый страшный момент разгула антисемитизма в СССР, но уже будто бы на переломе эпох, бабушка Сойба, под траурную музыку похорон Сталина, сказала всем нам, живущим с ней под одной крышей на Аудею,10: “Дети мои! Мы умрем здесь и будем похоронены на Рижском еврейском кладбище. А вы будете жить в Израиле и увидите Иерусалим.” Вот что сказала она тогда, в Пурим 1953 года, светлея глазами от своих невозможных слов, - старая, восьмидесятитрехлетняя еврейка, дочь раввина Розенфельда из местечка Ялтушкино, родившаяся в один год с Лениным и пережившая его вместе со Сталиным.
Слова ее оказались пророческими. Все мы, дети ее - три последующие за ней поколения, - в Израиле. И в Иерусалиме мы. И в Тель-Авиве мы. И в Хайфе, и в Кирьят-Гате. А бабушка Сойба и дедушка Фройка на Рижском еврейском кладбище. Там же - другой мой дедушка, по материнской линии, Аврум Вербовский и дочь его, моя тетя Беба Гросман.
В 1992 году, в морозный январский день, я вновь побывал на этом кладбище. Запущенном в ту пору, необустроенном. Я плутал между памятников, искал родные, выбитые еврейскими, мной уже хорошо читаемыми буквами имена. И не находил их. И вдруг словно что-то вытолкнуло меня из растерянности. То ли вслух, то ли в уме я произнес всему кладбищу, тысячам погребенным здесь евреям какие-то священные слова на иврите. Может быть, “Шма, Исраэль”. Может быть, “Барух ата Адонай...” И ноги сами понесли меня по тропинке моего детства, той, что вела меня в августе 1957 года во главе траурной процессии за гробом дедушки Фройки. И я нашел его могилу. С камнем у изголовья. Но уже без надгробия - уволокли, вероятно, современные дельцы-бизнесмены на новое захоронение.
Эта история каким-то мистическим образом связана с той, которую поведал нам Цви Патлас на страницах своей книги “Поднимите глаза”.
Вот она, в сокращении.
Раби Йосеф-Шломо Каганэман приехал в Израиль из Литвы, города Панавежис. Разъезжая по странам мира, собирая деньги на строительство йешив, он занимался еще одним благородным делом - разыскивал детей, пропавших без вести в годы катастрофы европейского еврейства.
Однажды... “Поиски привели его в некий католический монастырь в Польше, в котором, по слухам, во время войны укрывалось несколько потерявшихся еврейских ребят, - пишет Цви Патлас. - Настоятель монастыря заявил, что никаких еврейских детей в монастыре нет, что все это дети католиков. Сейчас они готовятся к конфирмации. Все они пережили ужасы войны, измучены и истерзаны. Стоит ли причинять им боль бесполезными распросами о прошлом?
Раби Коганэман попросил у него всего три минуты. И на это настоятель нехотя согласился. Раввина повели в просторную спальню, где маленькие воспитанники с любопытством уставились на необычно одетого бородатого незнакомца. А тот прикрыл глаза ладонью и громко произнес: Шма, Йисроэль! А-дой-ной Э-логейну, А-дой-ной эход!
И тут несколько подростков соскочили со своих кроватей и бросились к человеку, напомнившему им эти родные слова, которые каждая еврейская мать повторяет перед сном со своими детьми: “Шма, Исраэль!..”
“Шма, Исраэль!” Эти слова моя бабушка Сойба повторяла перед сном каждому из своих тринадцати детей, с начала двадцатого века.. Всем - и тем пяти, что выжили на вечной бескормице, и тем семи, что умерли. Это и было ее основным занятием, кроме, разумеется, содержания бакалейной лавки, готовки, стирки, активного - бегством! - сопротивления погромщикам и пассивного - неприятием! - советской власти и непременных родов. Ежегодних. С 1900-го по 1913-й. Тринадцатым был мой папа Арон, родившийся 12 мая 1913 года в Одессе и умерший за три дня до восьмидесяти восьми лет 9 мая 2001 года в Израиле.
Бабушка Сойба дожила до 90 лет. Покинула бренный мир в Риге в 1960-м, через три года после дедушки Фройки. На том свете они, наверное, опять соединились. Ибо их земное соединение было будто бы продиктовано свыше, во всяком случае, прошло как по написанному в нашей Книге Книг.
Мой дедушка Фройка, подыскивая себе жестянную работу, забрел в жаркий летний день в местечко Ялтушкино и, мучаясь от жажды, обратился к приглянувшейся красавице-незнакомке у колодца, дочке местного раввина Розенфельда, с просьбой - напиться. Девушка зачерпнула ему ковшиком воды, и с тех пор - до конца жизни он пил с ней, своей суженной, воду из одного источника. Везде, где ни жил - тогда в Одессе, потом в Кировобаде, Баку, Риге.
Он был кормильцем, а бабушка служила при нем защитным щитом семьи. У Сойбы было три брата. Два старших Розенфельда, Шика и Янкель, укатили в 1905-м от погромов на Украине в Аргентину и Бразилию. И иногда присылали своей сестрице оттуда доллары, пока не наехали на нее коммуняги с пахнущей Туруханским краем анкетой: “есть ли родственники за границей?”
Младший брат Сойбы подался от погромов в революцию. Он был одним из заместителей Щорса, вроде бы по тылу. Так говорил мой папа Арон. А еще он говорил, что младшего Розенфельда, когда он умер от тифа, хоронили не где-нибудь, а в самой Одессе, на лафете орудия. Под скорбные звуки музыки его оплакивала советская власть, не догадываясь, что только благодаря его стараниям и находчивости наша семья спаслась в свое время от карающей десницы той же советской власти.
В оригинальной упаковке это выглядело так...
Накануне окончательного взятия Одессы красными, но еще в пору иного цветового давления-правления, младший Розенфельд явился на улицу Среднюю в бакалейную лавку мадам Сойбель Гаммер. И сказал: “Сойба! Я имею тебе сказать пару слов. Сейчас придет советская власть и заберет твою лавочку. Продавай ее немедленно, не держась зубами за хорошую цену. И называйся, прошу, уже не лавочница, а по мужу, по Фройке - “жестянщица.” Пролетарское происхождение спасет тебя и всю твою мишпуху.”
Бабушка не перечила. Она поступила по подсказке брата. И из дочки раввина и матерой эксплуататорщицы-лавочницы - на нее работал один только дедушка! - превратилась в жену неимущего пролетария, чем и спасла себя и всех домочадцев от неминуемого наказания. Впрочем, лично она считала, что спасла всех не политическими ухищрениями ума единокровного брата, а своими молитвами. Ежедневными своими молитвами.
“Шма, Исраэль!” - молилась она, склонясь над колыбелью. И чувствовала - это слова веры, слова спасения, слова защиты от врагов. И не покинет ее Шхина - Б-жественное присутствие, не покинет ее и не покинет семью ее, пока она молится. А она молилась всегда. И до рождения Сталина, и после его смерти, пришедшейся на самый веселый еврейский праздник Пурим.
Шма, Исраэль.
Слова веры, слова защиты от врагов, слова спасения.
Слова веры. (Пример из древнейших времен...)
Шхина, Б-жественное присутствие, покинула нашего праотца Яакова в момент, когда он, собрав своих сыновей, хотел открыть им то, что произойдет в далеком будущем, рассказать о событиях, которые должны случиться в конце дней, когда придет Машиах.
Яаков не знал, почему Шхина покинула его и спросил:
- Может быть, это произошло из-за того, что у одного из вас есть сомнения в вере?
Ответили ему разом сыновья:
- Шма, Исраэль! (Слушай, Израиль! Г-сподь - Б-г наш! Г-сподь один!)
Их слова означали следующее, если их толковать: “Слушай, Израиль, отец наш! Мы принимаем на себя бремя Царства небесного, принимаем Творца как единственного Царя над собой, и нет в наших сердцах никого, кроме Него, так же, как и у тебя в сердце - только Он”.
Шма, Исраэль!
Слова защиты от врагов... (Пример из недавнего прошлого, почерпнутый из лагерных стихов бывшего узника Сиона Шимона Грилюса.)
“В сердце устроив кровавый погром,
Снова в наручниках, бороду сбрили.
Стали ермолку срывать вчетвером, -
“Шма, Исроэль”, - губы сами творили.”
Шма, Исраэль!
Слова спасения. (Пример из времен Второй мировой войны.)
Я расскажу вам невероятную иторию. Но она правдива. Слышал я ее из уст ассимилированного еврея Давида, мужа русской женщины Нины. Слышал в Риге. Неоднократно слышал. И каждый раз старый Давид захлебывался слезами, когда рассказывал эту историю. Он захлебывася слезами, и его обоженное, кирпичного цвета лицо корчилось передо мной, будто снова схвачено было пламенем газовой печи Освенцима.
Нацисты затолкнули Давида в печь и закрыли заслонку. И он горел, не сгорая, в ней, рядом с умирающими людьми. Он слышал автоматные очереди. Он знал: освободители близко. И знал: они не успеют. Под звуки выстрелов он превращался в кусок горелого мяса. И тогда, в беспамятстве что ли, Давид вспомнил молитву детства, ежедневную молитву матери, и стал шептать: “Шма, Исраэль!”
Заслонка печи открылась. И он, задыхаясь в запахе своего изжаренного тела, увидел солдата, со звездочкой на пилотке. И вывалился к нему на грудь, прожигая защитную гимнастерку угольями мяса своего человечьего.
Это все, что мне известно о спасении Давида. Дальше, обычно, он говорить не мог. Голос его пресекался. И он начинал плакать, судорожно умывая слезами лицо обгорелое.
Шма, Исраэль!
ВЕНОК ДИАСПОРЫ
1
Насилую себя - преображаюсь.
Раскраиваю вечность на мгновенья.
Раб мимикрии, мне пристало жалость
Выцеживать по каплям из презренья.
Боюсь злословья, как боялся прежде
Погромщиков в болоте местечковом.
«Я не такой! Иной!» - твержу невежде.
Но что ему оболганное слово,
Что всхлип души, когда в почете вата,
Которой уши у него забиты.
Боюсь вины безвинно виноватых.
Боюсь не смерти - другом быть убитым.
Вот облик мой, каким в судьбу он врублен.
Внутри углы. А внешне я округлый.
2
Внутри углы. А внешне я округлый.
Искусственная двойственность натуры.
В противоречье человека с куклой
Живу теперь, улыбчивый и хмурый.
Второе «я» - откормленная кукла -
К терпимости подвешено за уши.
Но сердце в нем мое. Оно набухло.
Оно готово вырваться наружу.
В нем генный код - мой поводырь в изгнанье -
Пророчествует, прозревая дыбу.
И голосует сердце за восстанье,
И рвет по швам мундир стереотипа.
«Король-то гол!» И кукла в страхе сжалась.
К второму «я» испытываю жалость.
3
К второму «я» испытываю жалость.
Ему скончаться, роль свою исполнив.
Мне с дрожью помнить, как оно сражалось,
Чтобы не сгинул я в житейских волнах.
Душе, взошедшей на костер страданий,
Не возродить стоклятого прикрытья.
Ее удел - вместить все мирозданье.
А если нет - так о него разбиться.
Что ждет меня в дороге обретенья
Такого «я», что боль веков впитает?
Как кровь густа, из вечности мгновений
Она ко мне все ближе подступает.
Мне жаль себя, Одессу, Ригу, Бруклин.
Но жалость не загасит в сердце угли.
4
Но жалость не загасит в сердце угли.
Не им, так искрам продираться лазом
Из сердца - этой невозможной кухни -
В мой мозаично выложенный разум.
Мозаика - цветная панорама
Грядущего, текущего, былого.
Во мне священнодействуют экраны,
Немые и насыщенные словом.
В экраны проецируются искры,
А стоны звуковым им служат фоном.
Далекое становится вновь близким.
И вот я погружен во время Оно,
Когда от имени вождя и Бога
Меня сжигала на кострах эпоха.
5
Меня сжигала на кострах эпоха.
Под крики «хайль!», моим мольбам не внемля.
И я, лишенный животворных соков,
Пахучим пеплом оседал на землю.
Что в пепле том? Одно воспоминанье:
Я без отчизны, земли без народа.
Но в мертвом пепле бился пламень тайный,
Раздутый в зарево лихою непогодой.
Огонь прожег сапог порабощенья,
А крику «хайль!» - голосовые связки.
И я восстал из пепла. Возрожденье!
Свободен жить! И жить не по указке!
Свободен ли? Меня, как впал в сомненье,
Расстреливали стрессами мгновенья.
6
Расстреливали стрессами мгновенья.
Рожденного - какой уж раз! - в неволе.
«Хочу быть сам собой! - страдал в смятенье, -
Доколе быть чужим себе? Доколе?»
Но мне иной был жребий уготован
Под директивным солнцем новой эры.
И оказалось: я лишен основы -
Своей культуры, памяти и веры.
Я понял, исходя душевной кровью,
Что нет реки, коль не было истоков,
Что, связь времен порвав, я обусловлю
Себе лишь подведение итогов
На счетах времени. Костяшки - крохи…
Я - в крик. Но поздно. Разродился вздохом.
7
Я - в крик. Но поздно. Разродился вздохом.
Мой вздох - среда питательная боли.
Как раковая опухоль, жестоко
Боль ест меня, живьем ест. Но доколе?
Я не хочу быть лакомой добычей
Для этой твари, вечно ненасытной,
И лепетать, сойдя в разноязычье:
«Вздох - вечный твой конек для любопытных».
А вздох - среда питательная боли.
Порочный круг. В нем замкнуто начало
На родовой замок моей недоли.
Довольно вздохов! Крик душа зачала…
Но в мире, где мной правит униженье,
Мне не дано знать крика облегченья.
8
Мне не дано знать крика облегченья.
Зато дано огнем души согреться,
Чтобы живой водой стихотворенья
Дойти до человеческого сердца.
Коснувшись сердца, к сердцу обратиться.
Стать сердцем, на день-два, всего Земшара.
И по-бунтарски в этот миг забиться,
Чтоб не свернулась кровь его живая.
Пусть ненадолго силы крови хватит.
Сердец-то много у Земного шара!
Сердцам планеты, ими став хоть на день,
Не раздувать всесветного пожара.
Суть эту проповедовать я волен.
Я - сын веков, что вечно обездолен.
9
Я - сын веков, что вечно обездолен,
Питал умы живой водой познанья.
И в том не виноват, что так устроен,
Что жизнь, по мне, синоним созиданья,
Что хлеб судьбы являлся хлебом сути,
А сути хлеб был невозможно горек,
Что нес его сквозь строй времен я людям
И оставался в их глазах изгоем,
Что из Земного шара, как занозу,
Меня рвал нелюдь мертвыми клыками,
Будь Моисей я, будь Эйнштейн, Спиноза,
Будь просто Дрейфус, Аронес иль Гаммер.
Униженный и беспощадно битый,
Жил внешним «я», как бы щитом прикрытый.
10
Жил внешним «я», как бы щитом прикрытый
От мелочных обид и оскорблений.
Себя считая, не «пархатым жидом»,
А гражданином мира и Вселенной.
Ко всем народам смог я причаститься,
Хотя оболган, предан был и продан.
Я - гражданин Вселенной и частица
Любого, как он ни зовись, народа.
В единстве сложного противоречья
Разноязыкий, иногда невнятный,
Я был последователь и предтеча,
Жил внешним «я», непонято-понятный
На форумах, ристалищах, в застольях.
А внутреннее «я» загнал в подполье.
11
А внутреннее «я» загнал в подполье,
Где Минотавру только развлеченье,
Чтоб тенью жизни рвалось из неволи,
Из лабиринта умопомраченья.
Не вырваться! Слоняться ротозеем,
В потемках избегать чужого взгляда.
Будь меч в руках… Меч выведет в Тесеи
И кинет в бой. Вот высшая награда!
Но нет меча, и жди, когда обманом
На солнце выведут, чтоб в ослепленье,
Не различить скользящего кинжала
И рухнуть от удара на колени.
Нет, из подполья я его не выдам.
Ведь только там ему не быть убитым.
12
Ведь только там ему не быть убитым.
В подполье, в нем, как это ни досадно.
Мой тайный мир, во тьме от сглаза скрытый,
Ждет - не дождется нити Ариадны.
Пусть парадокс! Слуга не мифа - яви,
Мой тайный мир ждет нити путеводной.
Он, как Тесей, живым остаться вправе.
Он, как Тесей, обязан стать свободным.
Нить Ариадны - это указатель
К своим корням, к вторичному рожденью.
Где смерть - там жизнь, и жизни ради
Есть смысл украсить вечностью мгновенье,
Чтобы добраться наконец до сути.
Я ль в этом виноват? - скажите, люди.
13
Я ль в этом виноват? - скажите, люди,
Что голос разума - лишь отголосок сердца?
Что детству не знакома взрослость буден,
Что старческий маразм впадает в детство?
Я ль виноват, что замолкают музы,
Когда в литавры бьют под грохот пушек?
Я ль виноват, когда планете грустно,
Когда планету ужас смерти душит?
Я ль виноват, что в мире этом сложном
Царит не логика, а словосыпь такая,
Что предпосылки очень часто ложны,
А истина у каждого иная?
О, люди! Как дойти до вещей сути?
Но люди не философы, а судьи.
14
Но люди не философы, а судьи.
«От пустословий всяких там сомлеешь!»
«Ату! Долой! Шрапнелью из орудий!»
И… «Хлеба! Хлеба! Хлеба! Зрелищ! Зрелищ!»
Мой монолог для их ушей, как небыль.
«Диаспора? Евреи? Где аншлаги?»
«К ногтю! Казнить!» И… «Зрелищ! Хлеба! Хлеба!»
И… «Секс! Вино! Марихуану! Шлягер!»
Не лучше ль замолчать врагам в угоду,
Дать и себе хоть толику покоя?
И… «Секс! Вино!» Чтоб не отстать от моды,
Готов и я проглочен быть толпою.
Разъята пасть, я в эту пасть вжимаюсь.
Насилую себя - преображаюсь.
15
Насилую себя - преображаюсь.
Внутри углы. А внешне я округлый.
К второму «я» испытываю жалость.
Но жалость не загасит в сердце угли.
Меня сжигала на кострах эпоха,
Расстреливали стрессами мгновенья.
Я - в крик! Но поздно. Разродился вздохом.
Мне не дано знать крика облегченья.
Я - сын веков, что вечно обездолен,
Жил внешним «я», как бы щитом прикрытый,
А внутреннее «я» загнал в подполье -
Ведь только там ему не быть убитым.
Я ль в этом виноват? - скажите, люди.
Но люди не философы, а судьи.
"Наша улица” №273 (8) август 2022
Охраняется законом РФ об авторском праве
адрес
в интернете
(официальный сайт)
http://kuvaldn-nu.narod.ru/