Александр Кирнос “И приходит ветер" глава из повести
"наша улица" ежемесячный литературный журнал
основатель и главный редактор юрий кувалдин москва
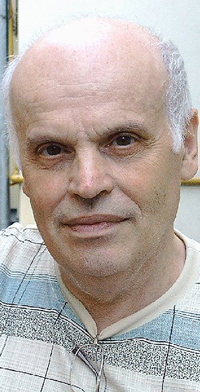
Александр Ефимович Кирнос родился 7 августа 1941 года в городе Козловка Чувашской СССР. Окончил Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию в 1964 году. В армии и после демобилизации до 2000 года работал врачом-хирургом. Печатался в журналах и альманахах России и Израиля, в 1993 году вышел сборник стихов "Дорога к Храму". Автор «Нашей улицы». В 2012 году в издательстве «Зебра Е» вышла книга повестей и рассказов «Тыча». В "Нашей улице" публикуется с № 98 (1) январь 2008
Александр Кирнос
И ПРИХОДИТ ВЕТЕР
глава из повести
Глава 1
"Маленький Береле, Береле-бу, дуй, что есть силы в большую трубу" - в 13 лет сразу после бар-мицвы осиротел Борух, став не только по еврейскому закону, но и фактически совершеннолетним. Банда Булак-Балоховича, преследуемая красными, успела сжечь половину домов в местечке вместе с неудачно спрятавшимися его обитателями. Не по возрасту рослый парнишка с серыми, словно запорошенными пеплом глазами, глянулся командиру отряда, и Борух в одночасье стал Борькой, трубачом и сыном эскадрона. На плечах отступавших белополяков кавалерийская лава катилась к Варшаве, но, не дойдя до нее, выдохлась и, как в отлив, откатилась назад, отмечая пути отхода могильными холмиками. Шашка сроднилась с правой ладонью Бориса Бернова также, как труба с губами. Сами собой выпевались песни, в которых вековечная русская мечта о воле и справедливости нерасторжимо сплеталась в одну мелодию с еврейской тоской об идеале.
Закончилась гражданская война, но Борис продолжал кочевую гарнизонную жизнь, пока не прилепилась к нему Люба, которую он в двадцать втором году умыкнул из родительского дома в Полоцке. "Рано утром только солнышко взойдёт, вдоль по фронту кавалерия идёт" - гремела молодецкая песня, бравые кавалеристы гарцевали по тихой улочке еврейской слободы, и сероглазый красавец на одинокой трубе сопровождал песню боя и страсти знакомой с детства клезмерской мелодией печали и надежды. Она не помнила, как, перепорхнув через плетень, оказалась в его седле. Через несколько дней всем эскадроном сыграли свадьбу. Ни раввинов, ни хупы, ни родственников ни с одной стороны.
По ночам их тела свивались плотнее, чем ремни кожаной кавалерийской плети, они буквально слеплялись, разъединяясь только на короткое время сна, чтобы очнувшись, вновь стать единым телом. Стосковавшиеся друг по другу половинки неудержимо стремились друг к другу. Ребенок не заставил себя ждать. В конце января двадцать четвертого года горе и радость слились воедино: смерть Ильича и рождение дочери. Имя вылепилось само собой: Нинель - Ленин, если читать справа налево, не забыл Борис - Борух учебу в Хедере. Счастливые родители были оставлены эскадроном в Витебске на попечение дальних родственников. Еще через год родился сын. Назвали Володей, на этот раз Борис уже не шифровался, любовь к вождю мирового пролетариата стала естественной, как дыхание, а читал и писал он уже давно только слева направо.
В Витебске, где комиссаром по делам искусства совсем недавно был Шагал, где Малевич вырубал свои квадратные окна в черноту космоса, и где местные клезмеры превращали еврейские нигуны в победные марши пролетариата, молодая пара пришлась не то, чтобы не ко двору, но как-то зависла между разными мирами.
Дядя Шама, у которого они нашли пристанище, был крупным осанистым мужчиной с покатыми плечами и длинными руками, кисти которых достигали колен. Силы он был неимоверной, легко закидывал на телегу пятипудовые мешки сахара, а однажды Борис видел, как он, крутя между пальцами, согнул целковый, положив его между указательным и средним пальцами, и надавив большим. Еще затемно в воскресенье он запрягал в телегу своего чалого мерина, ворота, смазанные дегтем, бесшумно отворялись и Шама исчезал до вечера четверга. Ездил он всегда один и никогда не попадал ни в какие передряги, а ведь в лесах вокруг города до самой границы было неспокойно. В слободе глухо поговаривали, что он занимался контрабандой и у него были знакомые по обе стороны границы. Он неторопливо ехал по лесу на своем мерине, время от времени громко покрикивая: «Ша-а-ама фурт, Ша-а-ама едет». В пятницу вечером в белой рубашке, лапсердаке и шляпе он пел другое: "Барух ата адонай Элохейну, адонай эхад".
Ютились вчетвером в восьмиметровой каморке, половину которой занимала лежанка, где все вместе спали, а у крохотного окошка примостился стол. На нем каждое утро расцветали написанные Любой по ночам цветы. Красок было всего две: сурик, пару банок которого обнаружила случайно Люба в чулане, и сажа. Сажи было много, дымоходы не чистились еще с германской войны.
Однажды она вынесла картины на рынок. Бывший учитель гимназии Стефан Юшкевич долго смотрел на обугленные черные цветы в пламени пожаров и на пламенные то ли розы, то ли пионы, вспыхивающие в угольно-черной ночи, затем церемонно поклонился и хрипловатым надтреснутым голосом сказал: "Мерси, мадам Реналь". Люба зарделась, будто ее щеки покрасили суриком. "Моя фамилия Смушкевич", - смущенно сказала она. Почему- то под пристальным взглядом Стефана она вспомнила свою девичью фамилию. Юшкевич еще раз поклонился и вышел. Через несколько дней соседский мальчишка передал ей завернутую в чистый белый холст книгу. Люба развернула холст. Грязноватый палевый переплет, выцветший затертый шрифт: Le Rouge et Le Noir и ниже De Stendhal и еще ниже Paris 1854.
Люба вспыхнула. Как же она могла забыть увлечение Стендалем в шестом классе гимназии и затрепанные тома "Отечественных записок" 1874 года, которые девочки тайком передавали друг другу. Юный Сорель, мадам Реналь, мадмуазель де ла Моль. Как этот любовный треугольник волновал когда-то, и как далеко все отодвинулось, покрылось патиной, как будто прошло не шесть лет, а промелькнуло несколько жизней.
Оторвавшись от стирки и смахнув со лба мыльную пену, Люба посмотрелась в маленькое зеркальце, висящее над рукомойником. На нее смотрела молодая женщина с широко расставленными карими с золотистыми искорками глазами. Черные локоны обрамляли матовое лицо. Слегка курносый нос, полные губы и четко очерченный подбородок не оставляли сомнений в том, что Юшкевич ошибался. Кто угодно, но не мадам Реналь. Не о любви мечтала Люба, перепеленывая детей, чистя картошку, стирая белье, слушая доклады о текущем моменте, роли трудящихся женщин в построении нового общества и неизбежности победы революции во всемирном масштабе. Ей хотелось простора, воздуха, свободы, и не когда-то, а сейчас. Но больше всего ей хотелось перелить на полотно те образы, которые вспыхивали в ее сознании, как искры в ночи.
Революция, конечно, победит, но прежде всего половодье революции без остатка должно снести старый быт с рабским положением женщины, с ее унизительной прикованностью к материнству, вынашиванию детей и возне с ними. Люба возглавляла местную ячейку комсомола, на заседания которого неизменно приходила в красной косынке и черной куртке.
Борис по рекомендации комэска был принят в милицию. Бандиты то там, то тут грабили и сжигали местечки, милиция не справлялась, приходилось неделями колесить по области. Однажды его отряд попал в засаду и, потеряв несколько бойцов, отступал к лесу, Борис был ранен в грудь и потерял сознание. Нашел его, перевязал и привез в город реб Шама, а выхаживала нескладная, остроносая, с такими же длинными руками, как у отца, незамужняя дочка Шамы, Тамара.
Выздоравливал Борис трудно. Пулю, прошившую правое легкое и застрявшую под лопаткой, доктор Арбитман, лишившийся левой руки в германскую войну, извлек сохранившейся правой. Помогала ему Тамара, которую он быстро обучил названиям медицинских инструментов. Корнцанг, зажим Кохера, скальпель, шприц Жане, игла Дюфо, повторяла она за ним и едва удержалась от смеха, впервые увидев почкообразный тазик, напомнивший ей ягодицы соседки Двойры, выпалывающей в огороде сорняки.
Лихорадка трепала Бориса, он все чаще впадал в беспамятство, лоб его был горячее печки, и Тамара прикладывала к нему смоченное холодной водой полотенце, по несколько раз в день меняла рубашку, пыталась разжать губы и влить в рот хоть несколько ложечек бульона.
Доктор Арбитман с каждым посещением становился все мрачнее, единственной рукой он выстукивал ребра больного, выслушивал его, став на колени и приложившись волосатым ухом к груди, и однажды сказал: все, ждать больше нельзя. В этот день он достал из принесенного с собой саквояжа стерилизатор, скальпель, шприц Жане, длинную толстую иглу, и длинную банку с притертой резиновой пробкой и двумя стеклянными трубками. Все это он отдал Тамаре и приказал прокипятить. Она разожгла примус, поставила на него стерилизатор с инструментами. Борис был в забытьи, дышал хрипло, с трудом. По просьбе доктора Тамара приподняла исхудавшего, почти невесомого Бориса и доктор быстрым почти неуловимым движением воткнул скальпель в его правый бок и расширил рану корнцангом. Из раны густой темной струей потекла вонючая жидкость.
Тамара сжала зубы, чтобы не закричать, под ладонью правой руки часто-часто, как у птенца билось его сердце.
- Не отдам, - шептала она, не отдам, никому не отдам.
Через две недели, вынырнув из бреда, Борис узнал, что Люба исчезла в тот же день, когда его ранили. Тогда же исчез и пан Юшкевич. И только весной, когда исхудавший, кожа до кости, Борис вышел во двор, Тамара по большому секрету рассказала ему, что Люба в тот августовский день уехала с Шамой. Затаившись в сенях, она слышала, как Люба уговаривала отца перевезти ее через польскую границу.
- Зачем? - зашелся в кашле Борис.
- Не знаю, - Тамара прижала его голову к своей плоской груди. - Береле, - шептала она, - ну, и пусть ее, пусть, она ведь только о красках и говорила все время, даже во сне, а детей ведь я нянчила, и пеленала, и козьим молоком из соски кормила, и ждала я тебя все ночи напролет, все глаза проглядела, пока они в своем клубе эти "дыр бул щыл" разукрашивали. А на каком это языке? Я и папу, и ребе спрашивала, а они только отплевывались. Она как-то повела меня в клуб, а там и парни, и девушки все ходят с какими-то черными квадратами на рукавах, я спросила, зачем это, а они заладили, Малевич, Малевич, Уновис, и лица у них такие сделались, как у тателе, когда он Шма читает, я потом узнавала, был в этой школе комиссар, наш Мордке Шагал с соседней улицы, так он еще в двадцатом году в Москву уехал, а вместо него приехал этот поляк, пан Казимир, с ним еще и пана Юшкевича видели, так этот пан Казимир и показывал всем и черный квадрат, и черный круг, и черный треугольник. А потом и он в Петроград уехал. А кто такой Уновис я не знаю, а тателе сказал, что он чернокнижник, и чтобы я и Люба не смели в этот клуб ходить, а Люба все равно ходила и пришла тоже с черным квадратом на рукаве, только у нее еще и куртка черная была и я квадрат не сразу увидела, а тателе увидел и сказал, чтобы она убиралась из нашего дома, а Люба кричала, чтобы он отвез ее в Польшу, а то она комиссару про ворованную махорку расскажет, - захлебываясь в словах, Тамара мелкими поцелуями покрывала его лицо. Прикосновения ее шершавых губ были неприятными, как будто мошки облепили лицо, хотелось стряхнуть их, но не было сил поднять руку. Тамара продолжала что-то говорить, быстро-быстро, но он уже не разбирал слов и снова забылся.
Впоследствии он и сам не мог понять, что он слышал, что ему почудилось, что пригрезилось в беспамятстве и почему он решил, что Люба была завербована ЧК и заброшена в Польшу. Занятия живописью, увлечение авангардом были легендой, а прикрытием был пан Юшкевич. Во всяком случае это казалось ему единственным разумным объяснением, он не мог поверить, что его Люба, с которой они вместе мечтали о мировой революции, может бросить детей и предать его, и все из-за кучки заумных поэтов и сумасшедших художников.
Почему-то больше всего его возмущал Алексей Крученых, чью оперу «Победа над солнцем» поставил в двадцатом году УНОВИС, и декорации к которой обнаружила Люба. - Что, что она в этом нашла? Чем, кроме бессмыслицы отличался "дыр бул щил" от знакомых с детства "вус ер махт" или "зол зайн штил". Этот южанин, родившийся в одном из сел Херсонской губернии и учившийся в Одессе, наслушался идиша и, пораженный звукописью незнакомой речи, формовал куличики новых слов в песочнице языка, и в эту игру прибежали играть другие дети, не успевшие наиграться вволю из-за погромов, пожаров, грабежей. В этом безумном мире, если ты не хотел убивать, насиловать и грабить, выжить можно было, либо становясь, либо притворяясь безумным. И "вус ер махт?", "что он делает?" было очень опасным вопросом, за который могли полоснуть шашкой или влепить пулю, а "дыр бул щил" было абсолютно нейтральным. Юродивых и скоморохов в России издревле привечали.
Из комсомола Бориса хотели вычистить за мелкобуржуазное разложение и утрату революционной бдительности, но комиссар отряда напомнил всем о его бесстрашии и героизме, проявленных в боях с бело-бандитами, и ввиду тяжелого ранения и невозможности продолжить службу в ЧОНе, ему только поставили на вид и постановили отправить учиться на рабфак.
Борис оставил детей Тамаре и уехал в Петроград. Город был темный, холодный, мелкий колючий снег сыпал с низкого февральского неба, тротуары обледенели, у Витебского вокзала на козлах дремали извозчики. Борис хмыкнул, вскинул рюкзак за спину и пошел пешком. На Гороховой ветер усилился, плотный сырой поток воздуха тянул от Невы, гудел, как в самоварной трубе, пробирал до костей. Борис плотнее запахнул шинель и ускорил шаг.
"Наша улица” №282 (5) май 2023
Охраняется законом РФ об авторском праве